Помните слова из некогда популярной песни: "22 июня, ровно в четыре часа…"? В нашем сознании ложно укоренилось, что война между нацистской Германией и Советским Союзом началась, как по звонку будильника, точно в четыре утра
Ефим ГАММЕР, Иерусалим
На самом деле стрелку часов надо отодвинуть на пятнадцать минут назад. Лишь в этом случае она остановится на той отметке, когда прогремели первые залпы и человеческие судьбы превратились в песок, гонимый ветром стихий.
В 3 часа 45 минут капитан латвийского торгового судна "Гайсма" Николай Дувэ передал радиограмму в пароходство с сообщением о том, что его атакуют немецкие торпедные катера.
Груженная лесом "Гайсма" шла Балтийским морем из Риги в Германию. Курс был хорошо изучен. На вахте стояли опытные моряки, не на словах знающие, что в пору весенних штормов много мин, поставленных еще в Первую мировую войну, сорвало с якорей. Инструктируя их, капитан Дувэ говорил: сейчас необходимо быть особенно внимательными, чтобы невзначай не напороться на смерть. Смотрите в оба! Ни на секунду не теряйте бдительности!
Неизвестно, знал ли капитан Дувэ несколько больше, чем простые матросы. Однако если следовать фарватером воспоминаний старейших латвийских мореходов, то перед мысленным взором возникает такая картина: накануне войны в пароходстве муссировались слухи о том, что немецкие подводные лодки ставят минные заграждения у Лиепаи и в Ирбенском проливе. Эти слухи, естественно, не вызывали прилива беспечности, а давили на психику, нервировали людей.
Незадолго до смены вахт впередсмотрящий заметил на горизонте четыре быстроходных катера. На их гафелях развевались военно-морские флаги Германии.
— Немцы! Немцы! — закричал он. — Атакуют!
Стремительное сближение, боевое развертывание и — беспощадный, почти в упор огонь из крупнокалиберных пулеметов по безоружному судну. Следом за этим — две торпеды. Первой разворотило корму, вторая угодила в борт "Гайсмы".
Крики, стоны, матерная брань. И — небывалая беспомощность.
Оставшиеся в живых спустили на воду уцелевшую шлюпку. И на веслах двинулись к спасительному берегу. Самой близкой латвийской точкой был портовой Вентспилс. На него, вернее, на призывно мигающий маяк Ужава, подчиняясь предсмертному приказу тяжелораненого капитана Дувэ, и держали направление.
Командование шлюпкой взял на себя "чиф" — старший помощник — Ян Балодис. На кормовом руле сидел матрос Наум Гольдин. Они привели суденышко к маяку Ужава, южнее Вентспилса. Здесь в лесу и похоронили капитана Дувэ.
Начинался первый день войны. Войны, не имеющей аналогов в истории по количеству безымянных могил и невинных жертв. До знаменитой, хотя и избирательно лживой рубрики советских газет — "Никто не забыт и ничто не забыто" — было далеко, как до звезд.
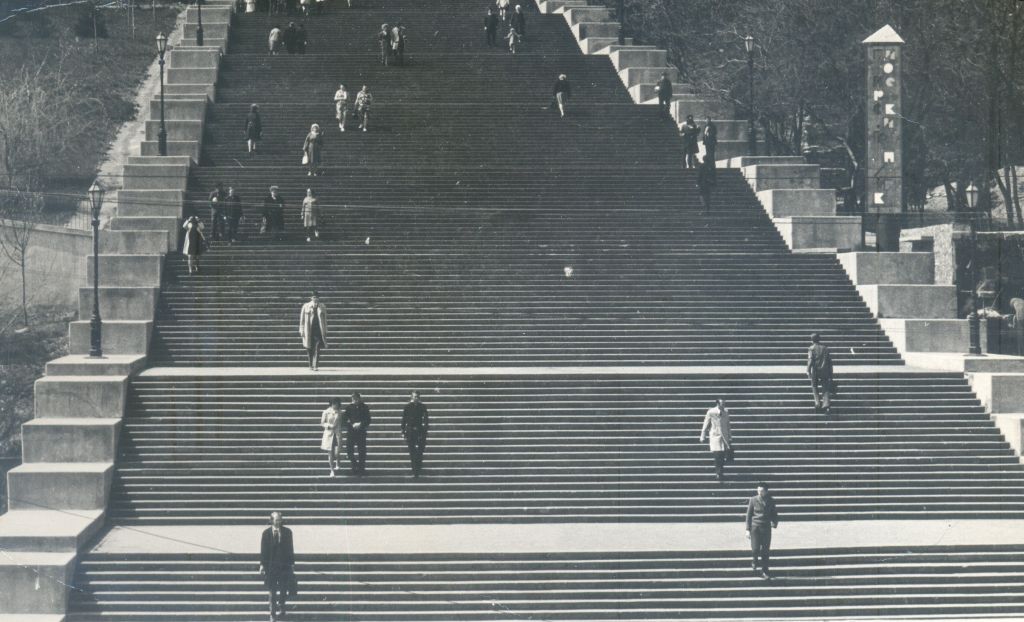
Свет далекой звезды…
Он вспыхивает в моем воображении здесь, в Иерусалиме. И уводит в далекий 1970-й год, когда мы, сотрудники бассейновой газеты "Латвийский моряк", готовили к изданию книгу "В годы штормовые".
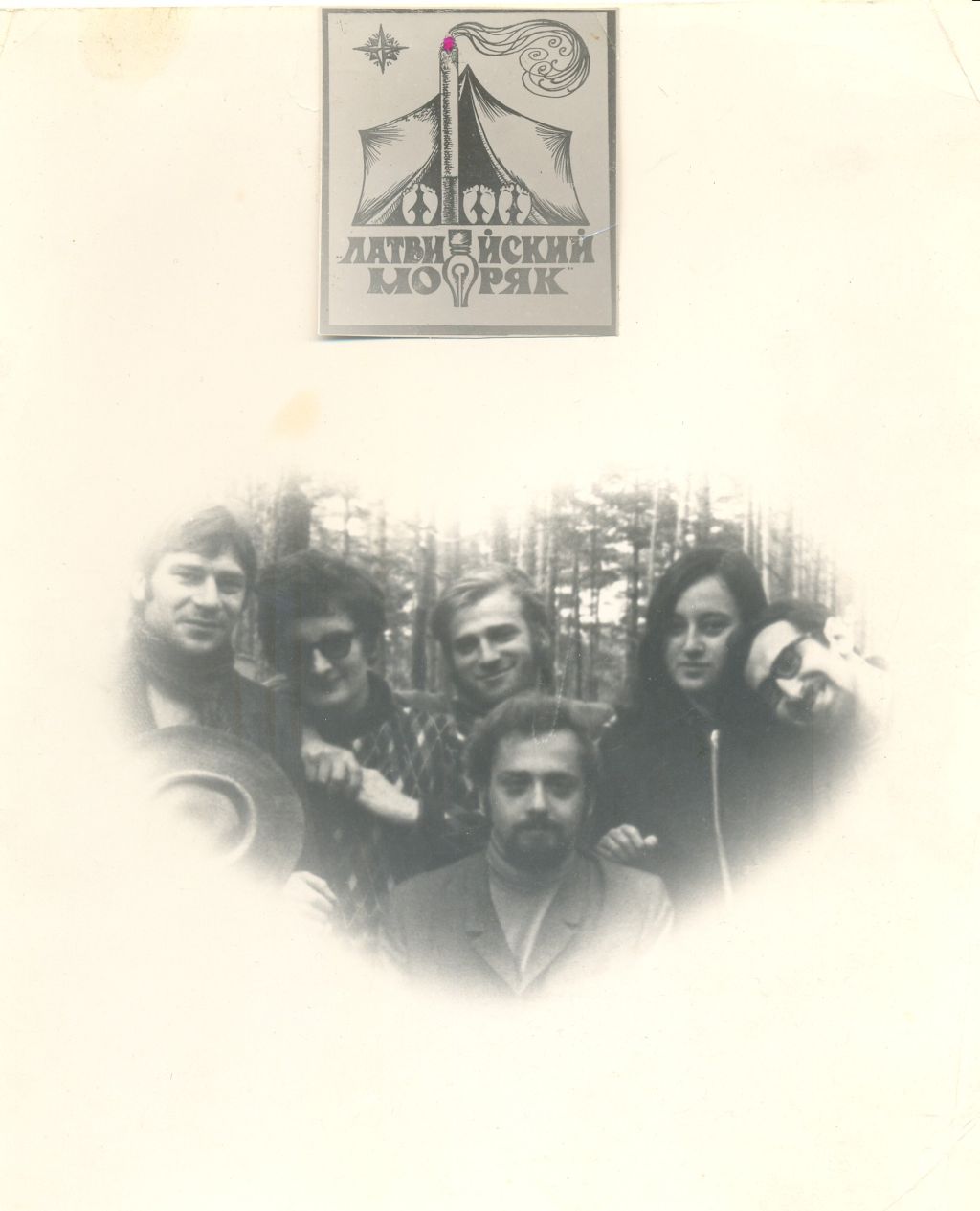
1970-й… Могила капитана Дувэ. Каменное надгробие. Фамилия. Имя. Это все, что известно о нем.
Странно, но никто не мог вспомнить его отчества. Чаще вспоминали — прозвище Дов ("медведь" на иврите — прим. автора), порожденное, скорее всего, фамилией.
Тогда, в 1970-м, собирая материал о гибели парохода "Гайсма", я встретился в Ужаве со смотрителем маяка Александром Цыганковым. Наша беседа началась с пикантного эпизода: оказалось, я нахожусь не просто на маяке, а в закрытой зоне, куда без специального разрешения соваться нельзя. В Вентспилсе, в кассе автовокзала, когда я брал билет до Ужавы, никто меня об этом не предупредил. В самой Ужаве, указывая мне лесную тропку к маяку, меня тоже не предостерегли от неприятностей. И я направился прямиком к ним, поднимаясь по крутой лестнице маяка в комнату смотрителя. Разумеется, Цыганков полностью доверял моим журналистским удостоверениям литсотрудника "Латвийского моряка" и корреспондента рижской вечерней газеты "Ригас Балсс" — "Голос Риги", выходящей в свет на двух языках, отдельными тиражами, на русском и латышском. Однако и доверяя, — пояснил, разводя руками, — обязан был проинформировать ближайшую погранзаставу о появлении в расположении его, надо полагать секретного объекта, постороннего человека.
Ближайшая застава, как выяснилось через несколько минут, жила по старому воинскому принципу, мне знакомому по действительной: "солдат спит, служба идет". Цыганков звонил по вертушке и четверть часа, и две четверти. Ответа никакого. Между звонками мой новый знакомец порадовал меня тем, что негласное появление в районе маяка сродни попытке перехода границы и влечет за собой наказание сроком… но может быть приравнено и к элементарному нарушению паспортного режима, допущенного по незнанию, а это несколько смягчает вину, и оборачивается всего-навсего штрафом размером… В моем случае, как представлялось ему, наклевывалось всего лишь нарушение паспортного режима. Следовательно, мне не стоит огорчаться, тем более, что я первый на его памяти журналист, добравшийся через все заслоны до могилы капитана Дувэ, чтобы запечатлеть ее на фотопленке — "в назидание потомкам и читателям".
Покончив с успокоительной эквилибристикой со сроками и штрафами Цыганков предоставил мне всю информацию, какой располагал о капитане Дувэ. Самые печальные предположения оправдались: смотритель Ужавского маяка знает не больше моего.
Капитан Дувэ прибыл в Ригу из Одессы для так называемого "укрепления латвийского торгового флота". Было это в 1940 году, вскоре после вступления Красной Армии в Латвию и провозглашения этой, прежде независимой страны, советской республикой. Почему именно в сороковом понадобилось "укреплять" флот прибалтов — исконных мореходов, внуков викингов — мы с Цыганковым не обсуждали.
Избегая риторических вопросов, мы направились через лес к могиле капитана Дувэ. Холмик. Серый камень. Звездочка на остроконечной пирамидке. И цветы — небольшой букетик — ровно столько, сколько приносит сюда время от времени Цыганков.
Я сделал несколько снимков. И мы простились.
На обратном пути к автостанции меня нагнал "газон" пограничников: дозвонился таки Цыганков до одной из "спящих" застав. Молодой офицер, старлей в щеголеватых сапожках, проверил мои корочки, убедился — не шпион и, отдав честь, сказал: "Сорок суток шагать ради нескольких строчек в газете. Топай себе. Все в порядке".
Жаль, не был я тогда израильтянином. Попросил бы тремп, чтобы подвезли. Думаю, это избавило бы меня от последующих неприятностей. Но израильтянином я еще не был. И влип в довольно глупую историю, в которой "срока" и "штрафы" из нелепицы смотрителя маяка обрели внезапно жизненные очертания.
На станции Ужава, когда я собрался было ступить на подножку рейсового автобуса, меня нагнал другой "газон" пограничников. И до второй "спящей" заставы дозвонился старательный Цыганков. На сей раз патруль возглавлял майор, служака серьезный, лет сорока с лишним. Он внимательно сличил мою подозрительную физиономию — бородка, усики, длинноволосая битловская прическа — с фотографиями на двух журналистских удостоверениях — "Латвийского моряка" и "Ригас Балсс". И вдруг спросил у толпящегося поблизости местного люда: "А существуют ли такие газеты в наличии?" Майору простительно. Его застава подписывается на "Красную звезду" и "Страж Балтики".
А местному люду? И вдруг мне стало немножко — "ништ гит". По внешнему виду местного люда я осознал: слава "Латвийского моряка" и "Ригас Балсс" еще не достигла этого рыбачьего поселка, выловленную рыбу здесь заворачивают в другие газеты, родом из Вентспилса…
В роковой верности своей догадки я убедился тотчас. Из группы людей выступил какой-то услужливый человечишко и, воровато озираясь по сторонам, сказал майору: "У нас нет таких газет. Это шпион", — указал на меня пальцем.
Да-да, назвал меня шпионом. И, честно признаюсь, от этого заявления пахнуло чем-то паленым. Я ощутил себя в такой же ситуации, как некогда экипаж парохода "Гайсма", вероломно атакуемый теми же немцами, которым везет строительный лес.
"Это шпион!" — повторил услужливый человечишко и протолкнулся в автобус. Следом за ним — шмыг — шмыг — и остальные, подальше от греха.
Автобус закрылся от меня, желающего подняться на ступеньку, двустворчатой дверью. И рванул в наступающую темноту.
Пограничники обыскали меня. Ничего особенного не нашли. Два газетных удостоверения. Тридцать рублей. Командировочное предписание. И фотоаппарат "Зенит", подозрительно торчащий — припрятан что ли? — под полой куртки. Поди объясни им, что я всегда держал фотоаппарат под полой, что позволяло мне пользоваться им как скрытой камерой во время съемок.
Майор созвонился со своим начальством. Начальство майора — с Ригой. Рига — с редактором "Латвийского моряка" Яковом Семеновичем Мотелем. (Мотель был хорошо известен в Риге. И пользовался полным доверием. Журналист неуемной энергии он, как о нем шутили, "на одной ноге обскакивал всех своих конкурентов по репортерскому цеху". Почему на одной ноге? В 18 лет, в Севастополе, при штурме Сапун-Горы он был тяжело ранен, потерял ногу. И с тех пор, будучи инвалидом войны, успевал на своей култышке действительно "обскакивать" многих журналистов, пока не сел в кресло редактора "Латвийского моряка"). Яков Семенович Мотель, отвечая на "кагебешенный" запрос, подтвердил, что направил корреспондента, меня то бишь, на Ужавский маяк. И побожился честным партийным словом, что ни он, ни я, ни мы оба не догадывались о том, что сей объект находится в пограничной зоне. Ему поверили. Мне всобачили штраф за нарушение паспортного режима. Пленку арестовали, а потом, конфисковав часть проявленных кадров, прислали в редакцию — печатайте снимки себе на здоровье, украшайте газетную полосу.
Так в "Латвийском моряке" появился репортаж об Ужавском маяке и смерти капитана Дувэ.
А потом — командировка в Одессу. Встреча с работниками Черноморского пароходства, со смотрителями Морского музея, с редактором "Моряка", газеты, ставшей легендарной после выхода в свет книги Константина Паустовского "Время больших ожиданий". Казалось бы, там, в городе, где прежде жило три поколения моих предков, где и я должен был родиться, если бы не война и не эвакуация на Урал, я легко отыщу следы капитана Дувэ. Но… Первый город-герой тоже не сохранил в памяти первую жертву войны. Однако в Одесском музее морского флота мне дали понять: это скорей всего потому, что Николай Дувэ — не коренной одессит, он родом из Ленинграда, там и надо искать его корни. А на Черное море он был командирован по службе точно так же, как впоследствии — в 1940-м — в Латвийское морское пароходство.
"Никто не забыт?"
На надгробии капитана Дувэ была выбита дата смерти — 22 июня 1941 года.
Но сохранилось ли ныне то надгробие?
https://www.isrageo.com/2017/06/23/mamgammer/











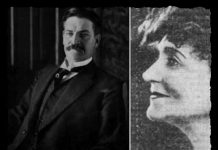













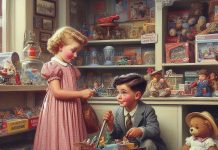













Точного времени начала ВОВ нет. https://ria.ru/society/20060622/49902772.html