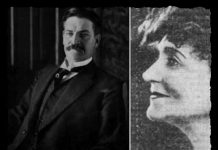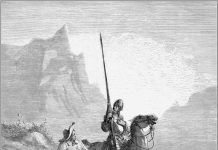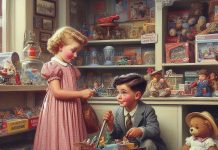Памяти Эдуарда Михайловича Сагалаева
Михаил ДЕГТЯРЬ
Мы за глаза называли его СЭМ.
СЭМ был реально мощнейшей фигурой на телевидении.
Могу вспомнить много историй с ним — за долгие годы работы на ТВ их накопилось достаточно.
Но чаще иных вспоминаю вот эту.
В 2008 году он снялся у меня в фильме.
В соавторстве с Эдуардом Дубровским, Борисом Караджевым и Дмитрием Завильгельским мы сняли фильм «Все это телевидение».
В нем было около двадцати героев, все – известные деятели отечественного телевидения. Каждый – штучная фигура. С каждым я договаривался сам.
Снимать фильм о телевидении очень сложно. Почему-то считается, что некорректно снимать о самих себе. Глупость какая!
Мы долго думали о концепции и решили снять картину о трех кратковременных периодах в советском и российском телевидении, когда на это самое телевидение приходила свобода.
Таких периодов было три – хрущевская оттепель, горбачевская перестройка и ельцинское время в начале 90‑х, когда на ТВ пришли первые большие деньги.
С этим фильмом было много проблем – связанных в основном с конкретными персонажами.
Некоторые очень обиделись, что я их в этот фильм не пригласил. Обиделись серьезно, вплоть до разрыва отношений. Звонит мне такой заслуженный человек и говорит:
«Ты же знаешь, какой я внес вклад в развитие телевидения?».
И ведь действительно внес! Но не ложился он у нас никак, что я могу сказать? Человек бросает трубку, что делать?
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Другие тоже в обиде: во-первых, почему ты меня так мало показал, а во-вторых, почему я у тебя только о телевидении говорю? Мол, я мог поговорить и о судьбах демократии и свободы.
Третьи испугались, что мы их подставили, что теперь у них будет слом карьеры из-за участия в нашем фильме.
Творческая судьба фильма была очень удачной. Хотя его и не показал ни один федеральный канал.
Фильм вошел в тройку на ТЭФИ, в тройку на «Лавровой ветви», стал лауреатом нескольких конкурсов, а в конце 2011 года участвовал в знаменитом фестивале русского кино во французском городе Онфлёре.
Так вот, Эдуард Сагалаев стал одним из самых ярких героев этого фильма. Именно его слова венчают фильм:
«Как вообще работает механизм страха? Он работает на примерах: закрыли несколько передач, убрали несколько людей из эфира. Талантливых. Поменяли форматы, поменяли собственников. Привести телевидение к присяге очень просто. Это делается вот так… (Здесь Сагалаев щелкает пальцами). И все телевидение во всей стране построится и будет делать то, что нужно. Так мы воспитаны. Так все устроено и по‑другому не бывает!».
Смелые слова. Я даже перед монтажом уточнил у Сагалаева, не отказывается ли он от этих слов? Может, в запале сказал?
СЭМ заявил, что подписывается под каждым словом.
Уверяю вас, не многие были способны такие слова произнести.
Светлая память.
* * *
Вот что в 2009 году о фильме "Все это телевидение" написала в издании lenizdat.ru Екатерина Васенина:
В редакции интернет-газеты "Особая буква" состоялся закрытый показ документального фильма Михаила Дегтяря "Все это телевидение (Время перемен)". Фильм студии "Репортер" оказался политически неблагонадежным для всех телеканалов, кроме частного кабельного "Совершенно секретно". На редакционной кухне кино посмотрели президент фонда "Индем" Георгий Сатаров, писатель Виктор Шендерович, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер, политик и политолог Владимир Рыжков, президент Гильдии неигрового кино Владимир Герчиков, эксперт Фонда защиты гласности Юрий Казаков, доктор юридических наук Елена Лукьянова. Всем им было что сказать о цензуре в России — кухня быстро превратилась в площадку дебатов.
Дегтярь — вице-президент Гильдии неигрового кино. Во главе угла для него не острота подачи, а точность и логика фактов формирования цензурного панциря. Поделенный на три части, фильм рассказал о романтическом периоде рождения советского ТВ в 1950 — 1960 годах, о фантастических возможностях внезапной свободы конца 80-х и о цензурных и коммерческих тисках девяностых и нулевых. Откровенное изложение фактов известными журналистами и телечиновниками — главная крамола. За отказ от беспамятства фильму закрыт эфир.
Кадры телехроники комментируют титаны отечественного ТВ. Многолетний ведущий программы "Время" Игорь Кириллов, редактор молодежных программ ЦТ в 50—60-е Елена Гальперина, бессменный ведущий КВН Владимир Масляков, "взглядовец" Александр Любимов и "шестисотсекундник" Александр Невзоров. Леонид Кравченко, руководитель Гостелерадио рубежа 80 — 90-х, и Ирена Лесневская помнят 50 — 60-е как период открытости и свободы. Рассказы о том, что в 60-х с появлением новой аппаратуры, позволявшей делать репортажи, журналист дрожал больше своего героя от страха не справиться с техникой, звучат как добрая сказка. Но это воспоминание о "дрожи" — важное.
Ответственность журналиста — как ее трактовать? Это внутренний редактор вкуса или самоцензура страха? Когда выпускающий программы "Время" в 1968 году сам убирает из сюжета картинку, на которой советские генералы сидят над разрисованной стрелками картой дружественной Чехословакии, — это внутренний редактор или самоцензура? "Не надо идеологических шприцов" — все эти пожелания были произнесены позже, до того как журналисты сами испугались своего влияния и его последствий.
Генеральный директор ОРТ в 1991—1992 годах Эдуард Сагалаев говорит в фильме: "Механизм страха работает на примерах. Закрыли несколько передач, убрали из эфира талантливых людей, поменяли форматы, собственников… Телевидение к присяге приводится так: щелк! — и все телевидение страны построится и будет делать то, что нужно". Доктор юридических наук Елена Лукьянова вне кадра была с ним согласна: "Это фильм о самоцензуре в широком, общеполитическом смысле. Меня волнует самоцензура судей. Половина неправосудных процессов — это вопрос именно самоцензуры. Сейчас судье уже никто не звонит сверху — он звонит сам, спрашивая, как ему поступить. Сейчас под влиянием самоцензуры судьи, журналисты, политики действуют с перестраховкой".
Дегтярь не скрывает ностальгии по телевидению рубежа 80—90-х. Владимир Молчанов вспоминает, как одним из первых добровольно вышел из компартии, не согласившись с вырезанием из программы "Время" сюжета о захвате Вильнюсского телецентра, как впервые рассказывал в прямом эфире о сосланной в лагеря бабушке, о том, как искренность измерялась не рейтингом, а мешками писем. Эдуард Сагалаев, возглавив в 1988 году программу "Время", из первой же разнарядки на съемки вырезал проводы Егора Лигачева в Вологду — "потому что я пришел делать революцию на ТВ!" Когда с опечатанного цензурного кабинета через несколько лет сорвали пломбы, Сагалаев ушел из программы "Время".
Фильм обозначает важнейшие вехи тележурналистики первой половины 90-х: рекламные ролики о пирамидах "МММ", Лесневская, заложившая квартиру ради первых ежедневных передач — астрологического прогноза на завтра, общее упоение и вера: "Вопрос денег не стоял. Стоял вопрос, как сделать лучше и рассказать то, чего никто не знает. Наверное, тогда мы были свободны".
Сегодня рядовой журналист воспринимается обществом сотрудником рекламной службы, задача которого запускать мемовирусы на вверенном ему участке обработки массового сознания. Почему так случилось, пытается понять Дегтярь. "Все это телевидение" сделано, чтобы напомнить: журналистика бывает честной и открывающей новые миры.
Георгий Сатаров припомнил такой эпизод: "В 1987 году Горбачев собрал большое количество редакторов и произнес речь. Суть сводилась к тому, что за границей есть оппозиция, и, похоже, это очень полезно. Понятно, что у нас никогда не будет оппозиции, и важно, чтобы пресса сыграла роль оппозиции. Так началась игра прессы в оппозицию. Трагедия состояла в том, что пресса в роли оппозиции появилась раньше, чем реальная политическая конкуренция".
Автор — советский и российский телерепортёр, режиссёр документального кино. Руководитель студии «Репортёр», кинопродюсер, писатель. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2005).