Еврейская муза Самуила Маршака
Матвей ГЕЙЗЕР
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Само по себе такое название статьи о Самуиле Яковлевиче Маршаке у читателей, уверенных, что знакомы с творчеством любимого поэта с детства, и у тех, кто воспитал на его стихах детей и внуков, догадываюсь — может вызвать недоумение. Мало кто предполагал, что значительная и, быть может, лучшая часть творчества Маршака восходит к библейской и еврейской теме. Скорее всего, об этом и сегодня почти никто не знает. Недавно в архиве Маршака я нашел письмо, которое отчасти воспроизвожу:
"Большому поэту Самуилу Яковлевичу Маршаку.
Будучи Вашим читателем старшего поколения, я позволил себе обратиться к Вам с настоящим письмом.
Сперва разрешите мне поздравить Вас с семидесятилетием со дня Вашего рождения и, от искреннего и чистого сердца пожелать Вам доброго здоровья, многих лет творческой жизни!
А затем я позволю себе будучи тоже на седьмой ступеньке жизненного пути, выразить Вам свое глубочайшее сожаление, по поводу того, что на протяжении всей творческой деятельности Вы пока (я хочу верить в пока) не подарили современникам и будущему потомству, ни одного произведения, своему, еврейскому народу…
Ваш талант, большой, разносторонний в т.ч. и переводной, но подлинного национально-народного — ничего нет. По крайней мере не обнародовано, не известно широкому читателю.
Конкретно: нет в Вашем творчестве произведений, посвященных своему народу: национальных по форме и социалистических по содержанию… Чтобы еврейский народ мог гордиться Вами целиком и полностью и считать Вас, своим народным поэтом…
Хочется верить, в течении последнего периода Вашей жизни, Этот пробел Вы заполните, учитывая, что Вы в большом долгу".
Далее следует подпись, адрес и дата 2 декабря 1957 года.
Я передал письмо, сохраняя его текст в авторской пунктуации. Бедный автор письма — он не только не знал, но и не мог предположить, что юный Самуил Маршак был автором таких стихов:
Снится мне: в родную землю
Мы войдем в огнях заката
Запыленную одеждой,
Замедленную стопой.
И войдя в святые стены,
Подойдя к Ерусалиму,
Мы безмолвно на коленях
Этот день благословим.
А через несколько лет Маршак посетит свою историческую родину и напишет зрелые стихи:
По гордой, царственной дороге
вхожу в родной Иерусалим
И на святом его пороге,
стою смущен и недвижим…
Во все века, в любой одежде,
родной, святой Иерусалим
Пребудет тот же, что и прежде,
как твердь небесная над ним.
Упрекнуть автора процитированного письма, как и тысячи читателей и поклонников Маршака в том, что для них он был только высокоталантливым детским поэтом и переводчиком, было бы не только несправедливо, но и нелепо.
“Не многим сегодня известно, — вспоминает еврейский поэт А.Вергелис, — что Маршак начал с маленькой книжечки “Сиониды”. Еще молодым пареньком написал он ее. Я принес ему как-то эту книжечку и сказал: “Вот ваша первая книжечка”. Он был до крайности озабочен: “Голубчик, неужели я не все уничтожил?..”
Здесь уместно вспомнить древнеримское изречение “Poeta semper tiro” (“Поэт всегда простак”); но, увы, жить Маршаку довелось не в Древнем Риме, а в стране, где быть таким “простаком”, да еще при этом и евреем (даже для человека, значащегося в БСЭ как “выдающийся русский поэт”) — удел далеко не простой. А уж за причастность к сионизму можно было не только оказаться на Соловках, но и поплатиться самой жизнью. И с этой точки зрения реакция Самуила Яковлевича на “подарок” Вергелиса — более чем естественна.
Следующее же утверждение А.Вергелиса: “В зрелые годы никаких еврейских мотивов в творчестве Маршака не было” — не только поверхностно, но и безосновательно. Впрочем, об этом позже. А сейчас я хочу вернуть читателей к “Сионидам”.
“Книжечку” Сиониды я никогда не держал в руках, и попытки мои найти ее даже в Ленинке к успеху не привели (да и была ли такая “книжечка”?). Но стихи из “Сионид” я читал в книге “У рек Вавилонских” (“Сафрут”, 1917). Помню, как они взволновали меня:
Как странно, что поток бурливый —
Века, событья, племена —
Не смыл здесь прошлого… И живы
В стране родимой имена
Священных мест. Я был в деревне
Феллахов бедных — Анотот.
Там рос и жил великий, древний
Пророк, оплакавший народ.
И глядя на немые камни
Жилищ, раскинутых окрест,
Я долго думал, как близка мне
Печаль суровых этих мест.
(46, с. 130)
О том, что Маршак — не просто “россиянин еврейского происхождения”, но и настоящий еврей по духу и самосознанию, я понял во время нашей с ним единственной в жизни встречи.
В 1963 году я был у Самуила Яковлевича. Он был уже тяжело болен. Ему было трудно дышать, говорить — еще труднее. Он много курил, и от этого приступы кашля учащались. Я несколько раз пытался ускорить свой уход, но Самуил Яковлевич не отпускал меня. О той встрече с ним я уже писал, здесь же воспроизведу лишь несколько его высказываний:
“В детстве я читал Тору и ее толкователей. Знаменитый реб Аба поучал: “У детей учитесь мудрости”.
И еще, в ответ на рассказ о моем дедушке, “спасшем” меня от игры на скрипке: “Умница ваш дедушка, ох умница! О, эти местечковые старики! Сколько мудрости, юмора и печали хранили они в своих сердцах!.. Скажите, а дед вас учил читать Тору?” Мое молчание Самуил Яковлевич воспринял как ответ…
СТАСОВ В ЖИЗНИ МАРШАКА
О жизни и творчестве С.Я.Маршака написаны книги Б.Галанова, Б.Сарнова, В.Смирновой, сотни, быть может, — тысячи статей, диссертации, издано два сборника “Воспоминаний о Маршаке”. Казалось бы, литературное наследие поэта изучено и исследовано. Но одна тема в творчестве Маршака — еврейская — долго оставалась нетронутой, как бы “незамеченной” всеми маршаковедами…
Стихи на библейскую и тему занимают весьма заметное место в творчестве Бунина и Ахматовой, Фодганова и Цветаевой… Но путь Маршака к этой теме был несколько иным, чем у перечисленных поэтов. Он был в значительной степени генетическим.
Одно из первых стихотворений Маршака, получивших (правда, в силу особых обстоятельств) широкое признание, называлось: “Кантата в память Антокольского. Из Библии”. Кантата была исполнена на вечере памяти скульптора М.М.Антокольского (1843-1902) в Обществе поощрения художеств 22 декабря 1902 года. В написанном В.В.Стасовым сообщении о вечере говорилось: “В заключение хор синагоги под управлением М.И.Шнейдера исполнил высокоталантливую кантату в память Антокольского (речитатив и хор), музыка для которой, с аккомпанементом фортепиано и валторны, была сочинена А.К.Глазуновым и А.К.Лядовым. Текст для этой кантаты был сочинен Сам. Яковл. Маршаком”.
Сестра Маршака Юдифь Яковлевна вспоминает:
“Когда после окончания кантаты публика требует авторов, на эстраду выходят маститые, всем известные Глазунов и Лядов, держа за руки третьего автора, которому на вид нельзя дать и четырнадцати лет… Родителей, находившихся в зале, поздравляют. Их знакомят с В.В.Стасовым…”
Размышляя об удивительной дружбе почти восьмидесятилетнего Стасова и отрока Самуила Маршака, невольно вспоминаешь слова Вольтера: “Дружба великого человека — это дар Богов”.
Один из известнейших деятелей русской культуры, замечательный музыковед и искусствовед, Стасов славился своим умением находить таланты и горячо поддерживать их. По моему глубокому убеждению, он не только сыграл решающую роль в судьбе Маршака, но и в значительной мере создал его.
Стихи к Кантате написаны юным Маршаком по просьбе самого Стасова. В них еще много несовершенного, но они полны пафоса и поэтичности, идущих от Книги Бытия, в них проступает облик великого пророка Моисея… Маршаку тогда едва исполнилось 15 лет, а какое знание Ветхого завета; какое проникновение в него:
Рече Господь: “Да будет муж великий!
Его весь мир недаром ждет.
Я одарю его высокою душою,
И под его творящею рукою
Холодный мрамор оживет!”
И вот явился он. К своей желанной цели
Чрез край неведомый повел он свой народ,
И мощно раздалось над смолкнувшей землею
Его “вперед”, бесстрашное “вперед”.
И встал он, и пошел. И на пути великом
Погибших воскрешал, и камню душу дал,
И сердце в нем зажег.
Свершен высокий подвиг,
И гений пал!..
И застонал народ: “Кого похоронил я?
Кто одинок в сырой земле лежит,
И чья рука протянута недвижно,
Чья грудь огонь не оживит?
Но не исчезнет он из памяти народной.
О нет! И будет он как радуга сиять,
И яркою звездою путеводной
Наш мрачный путь он будет освещать!”
Одно из ранних стихотворений на еврейскую тему написано в 1904 году; в нем, как и в предыдущем, широко использованы библейские мотивы. Оно называется “Над открытой могилой” и посвящено памяти выдающегося еврейского политического деятеля “отца” сионизма, Теодора Герцля. Шел тогда Маршаку семнадцатый год. Интересно, что только два поэта — еврея, пишущих на русском, откликнулись на смерть Герцля — Владимир Жаботинский и Самуил Маршак. В 1904 году они не знали друг друга, но оценка их значимости Личности Герцля, а по сути и сионизма во многом совпадает. Вот отрывок из стихотворения Владимира Жаботинского “Памяти Герцля”:
Он не угас, как древле Моисей,
на берегу Земли Обетованной;
он не довел до родины желанной
ее вдали тоскующих детей;
он сжег себя, и отдал жизнь святыне
и “не забыл тебя, Иерусалим”, —
но не дошел и пал еще в пустыне,
и в лучший день в родимой Палестине
мы только прах трибуна предадим.
“Над открытой могилой” — первое из опубликованных стихотворений юного поэта, подписанное фамилией С.Маршак. Фамилия эта (в старые времена она произносилась “Магаршак”) произошла от сокращения званий и имени выдающегося еврейского ученого, писателя и талмудиста XVII века Аарона Самуила бен Израэля Кайдановера (“М”— маре, учитель; “Р” — раввин; “Ш” — имя Шмуэль, Самуил; “К” — скорее всего от местечка Кайданов, но возможно, что от родовой фамилии “Клюгер” — “умный”).
Отец Аарона Самуила — Израэль, предок С.Я.Маршака в седьмом колене (он родился в Кайданове близ Минска), был человеком блистательной и трагической судьбы: спасаясь от бунтующих казаков, он вместе с семьей бежал в Люблин, но и здесь его настигли тяжелейшие испытания — на его глазах убили двух дочерей и сожгли бесценную его библиотеку. Но и эти испытания не убили в нем веру — человек, всю жизнь любивший книгу Иова, передал преданность Богу старшему сыну Аарону Самуилу, будущему раввину Франкфурта — на — Майне и Кракова.
Смерть Аарона Самуила отмечена печатью святости — он умер, произнося молитву на съезде раввинов в Хмельнике.
Сын Аарона Самуила — Цеви Гирш — написал немало книг, издал во Франкфурте сочинения своего отца. (Как повторяется история! Даже в кругу одной семьи! Спустя 200 лет, сын С.Я.Маршака — Эммануэль Самойлович подготовил после его смерти к изданию восьмитомное собрание его сочинений!) За книгу “Честная мера”, Цеви Гирш угодил вместе с семьей в Виленскую тюрьму. Выйдя из тюрьмы после четырехлетнего заключения, он воскликнул: “О, человек, если бы ты знал, сколько дьяволов жаждут твоей крови, то подчинился бы всецело и телом и душою Господу Богу!”. Своему внуку — будущему деду Самуила Яковлевича — он внушал вечные заповеди, подаренные Всевышним народу Израиля. Заветы эти передавались потомкам рода Маршаков из поколения в поколение и навсегда входили в их сердца. И в этой неразрывной преемственности, наверное, также истоки еврейской темы в творчестве Маршака.
Можно предполагать, что в силу определенных обстоятельств, не все еврейские стихи Маршака дошли до нас, но что стихов таких было немало, сомнений не вызывает. Одно из лучших стихотворений на библейскую тему — “Из Песни Песней”. Стихи эти, являющие свободную вариацию на великую библейскую книгу, были созданы Маршаком в Ялте, где он жил в 1905-1906 году в семье А.М.Горького. Как известно, в юности Маршака одарил своей дружбой не только Стасов, но и Горький, Шаляпин, Глазунов… Как он очутился в Ялте, рассказывает друг и ученик Самуила Яковлевича Яков Козловский: “В теплый августовский день 1904 года на даче у Стасова, где съехались Ф.Шаляпин, А.Глазунов, И.Репин, скульптор И.Гинцбург — близкий знакомый Льва Толстого, юный Маршак познакомился с М.Горьким. И когда Стасов, обняв Сама (так он называл с любовью Маршака), стал говорить, что климат Севера вреден для его молодого друга, Горький обратился к Маршаку:
— Хотите жить в Ялте? Мы с Федором это устроим. Верно, Федор?
— Непременно устроим, — весело отозвался Шаляпин.
И через некоторое время Горький вызвал Маршака в Ялту”.
Ялтинский период очень плодотворен для юного Маршака: он глубоко, и одновременно много внимания уделяет еврейской теме.
“Песнь песней” переводили многие русские поэты. Маршак обратился к трем стихам из “Песни песней”. Стих из Библии: “Голос возлюбленного моего! вот он идет, скачет по горам, прыгает холмам” (гл. 2, ст. 8) в интерпретации Маршака звучит так:
Луч струится с небосклона —
Милый мчится с гор Хеврона
Ясен, светел, как корона…
Строен, как олень.
Это он, кого ищу я,
Это он, кого, тоскуя,
Жду я с лаской поцелуя…
Загорись, мой день!
Разбегайся, тьма ночная,
И печаль мою умчи…
О, идет он, вестник мая!
О, идет! Горят, сверкая,
Взора гордого лучи!..
Продолжение стихотворения — вольные переводы стихов из главы 8-й: “О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! Тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы”:
О, когда б ты был мне братом, —
Не ночами, не с закатом,
С сердцем, трепетом объятым,
Вышла б я к тебе!..
Как несутся гребни вала, —
Побежала, задрожала
И к груди тебя прижала
В страсти и мольбе!
Только солнце загорится
На вершинах снежных гор, —
За тобою, как орлица,
Полетела б на простор!
И едва лишь робким светом
Озарится спящий сад,
Мы сошли б к цветам с приветом:
Расцвели ли ранним летом,
Распустился ль стройных лилий
Белоснежный аромат?
Этот блистательный для молодого автора перевод из “Песни песней”, как и многие другие стихи и переводы, относящиеся к “ялтинскому периоду” жизни поэта, печатались в альманахе “Песни молодой Иудеи” и в газетах. Среди них хочется отметить прекрасный перевод из Х.Н. Бялика — “Последнее слово”. Он сделан с идиша в 1905 году:
Меня опять Он к вам послал,
когда ревел могучий вал
и по ветру носились вы,
как груда высохшей листвы,
и руки падали у вас,
и силы таяли в груди.
И в ваш последний грозный час
явился Он и рек: “Иди!”…
И я пошел. Пускай каменья,
преграды были предо мной, —
меня могучее стремленье
толкало с силой неземной
И ваша боль меня толкала,
и вам помочь душа алкала…
Бог одарил меня душою,
вам эту душу подарю.
И мне язык Иегова дал.
Он — острый блещущий кинжал.
Коль вы из камня — он железный,
Коль вы железо — он булат.
Народ, и встанешь ты из бездны,
могуч и пламенем объят!
Теперь пред дверью стал пророк.
Напрасен зов, — ответа нет.
Тяжелый мрак главу облек,
погас могучий луч, мой яркий свет.
Я встретил здесь и позор и стыд,
передо мной закрыли дверь
и слово Божие звучит
насмешкой горькою теперь.
Пророк не был услышан, пророк не был понят, пророк был осмеян, и Бог наказывает свой народ:
…Бежать вы будете, как тени,
из края в край, из дома в дом,
и град вас встретит оскорблений,
как нищих на пиру чужом…
И вам земля могилой станет,
беззвездной будет ваша ночь,
и жизнь, как мертвый лист, увянет,
ваш стон развеет вихорь прочь…
И рек Господь:
“Пусть принесут
пророку глиняный сосуд,
а он о камни разобьет
и крикнет:
“Так погиб народ!”
Конечно, это стихотворение гениального Бялика, но нельзя не поразиться и маршаковскому переводу: все образы, сама речь по библейски значительны, поэтичны и глубоки. И не может не удивить, как во многом перекликается этот перевод с собственными стихами Маршака в его “Кантате памяти Антокольского. Из Библии”. Как я уже говорил, написанием этой кантаты Маршак в значительной мере обязан был В.В.Стасову. В одном из писем Владимир Владимирович писал семнадцатилетнему Маршаку: “…Милый Семушка, чего я тебе желаю и чего больше всего боюсь и на что надеюсь: первое — что ты никогда не переменишь своей веры, какие бы ни были события и обстоятельства, люди и отношения…” (из письма Стасова к Маршаку). Он, несомненно, сохранил верность завету В.В. Стасова.
ЕЩЕ ОБ ИСТОКАХ ЕВРЕЙСКОЙ ТЕМЫ
В своей книге “В начале жизни”, написанной Маршаком уже на склоне лет, есть немало страниц, о его еврейском детстве. О своем отце Я.М.Маршаке поэт вспоминает: “Детство и юность провел он над страницами древнееврейских духовных книг. Учителя предсказывали ему блестящую будущность… Книжная премудрость считалась в его среде почетным делом…”; однако по пути своих предков Я.М.Маршак не пошел — “…Не так-то просто было перейти от старинных пожелтевших фолиантов к заводскому котлу” — но именно такую дорогу выбрал отец Маршака. С.Я.Маршак родился в 1887 году в Воронеже, а в начале 1893 года семья Маршаков переехала в Витебск, где жил его дед по матери Б.А.Гительсон, занимавший пост казенного раввина при губернаторе. Маршак вспоминает, что дед по утрам долго молился и “читал свои большие, толстые, в кожаных переплетах книги…” Нет необходимости объяснять, что в такой семье детям давалось двойное образование — русское и еврейское: “Когда наши занятия понемножку наладились, дедушка осторожно предложил добавить к ним еще один предмет — древнееврейский язык. Мама опасалась, что нам это будет не по силам, но дед успокоил ее, пообещав найти такого учителя, который будет с нами терпелив, ласков и не станет задавать на урок слишком много”.
Несмотря на малый возраст, Маршак довольно хорошо запомнил Витебск: “…С первых же дней я почувствовал, что все здесь какое-то особенное: …много узких, кривых, горбатых улиц и совсем тесных переулков… В каждом закоулке ютятся жалкие лавчонки и убогие, полутемные мастерские жестянщиков, лудильщиков, портных, сапожников, шорников. И всюду слышится торопливая и в то же время певучая еврейская речь… Даже с лошадью старик извозчик, который вез нас с вокзала, разговаривал по-еврейски…
Все это — подтверждение ранее высказанной мысли о “генетическом” происхождении библейской (ветхозаветной) темы в творчестве Маршака. Сын С.Я.Маршака Эммануэль Самойлович рассказывал мне, что отец в юности прослыл не только знатоком иврита, но и Священного писания; он был одним из переводчиков поэтических текстов книги “Дом молитвы”, изданной в 1907 году в Вильнюсе, где издавалось много книг по иудаизму. Мне удалось разыскать эту книгу; к сожалению, имена переводчиков стихов в ней не указаны, — указан лишь переводчик всего текста — Вол., но приведу здесь полный текст стихотворения “Песнь о козице”. Обычно стихи такие, как и предпасхальные агады, читали и распевали в канун Пасхи.
Песнь о козице.
Отец мне козицу купил,
Два целых зевса заплатил.
Козица, козица.
Недолго жил козленок мой,
Загрыз его котище злой.
Отец мне сам его купил.
Два целых зевса заплатил.
Козица, козица.
Почуяв кровь, пес прискакал,
Кота жестоко истерзал,
Который козицу подрал.
Отец мне сам ее купил,
Два целых зевса заплатил.
Козица, козица.
Дубинка, не спросясь, кто прав,
Свершила суд! пса наказав
За то, что на кота насел,
Который козицу заел.
Отец мне сам ее купил
Два целых зевса заплатил.
Козица, козица.
Журча, ворча ручей притек,
Залил, затмил наш огонек,
Тот самый, что дубинку сжег
Свалившую собаку с ног
За то, что на кота насел,
Который козицу заел.
Отец мне сам ее купил.
Два целыхъ зевса заплатилъ.
Козица, козица.
Пришел вол, выхпеб pyчеек
Гасивший ярый огонек,
Тотъ самый, что дубину сжег,
Свалившую собаку съ ног
За то, что на кота насел,
Который козицу заел.
Отец мне сам ее купил,
Два целых зевса заплатил,
Козица, козица.
Мясник ножу вола обрек,
Который выпил ручеек,
Тушивший ярый огонек.
Тот самый, что дубинку сжег,
Свалившую собаку с ног
За то, что на кота насел,
Который козицу заел.
Отец мне сам ее купил,
Два целых зевса заплатил.
Козица; козица.
Подкралась смерть исподтишка,
Свела в могилу мясника,
Что на убой вола обрек,
Который выпил ручеек,
Тушивший ярый огонек,
Тот самый, что дубинку сжег,
Свалившую собаку с ног
За то, что на кота насел,
Который козицу заел.
Отец мне сам ее купил,
Два целыхъ зевса заплатил.
Козица, козица.
Отниметъ Богъ у смерти мечъ,
Спешившей мясника упечь,
Что на убой вола обрекъ,
Который выпил ручеекъ,
Гасившiй ярый огонекъ,
Тоть самый, что дубину сжегъ,
Свалившую собаку съ ногъ
За то, что на кота населъ,
Который козицу заелъ.
Отец мне самъ ее купилъ,
Два целыхъ зевса заплатилъ,
Козица, козица.
Тут же процитирую отрывок из маршаковского “Дома, который построил Джек”:
Вот пес без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и повит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это корова безрогая,
Лягнувшая старого пса без хвоста.
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
А эти стихи — один из вариантов С.М. Маршака — еще больше похожи на “Песнь о Козице”
Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с молочницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Поймавшего крыс,
Забравшихся в рис,
В доме, который построил Джек.
Едва ли можно сомневаться, сравнив эти два стихотворения, что переводчиком обоих является С.Я.Маршак.
СНОВА В ПЕТЕРБУРГЕ
По возвращению из Ялты в Петербург (1906 год) Маршак познакомился с одним из лидеров движения “Поалей Цион” (так называлась революционная организация молодых еврейских рабочих-сионистов) И.Бен-Цви. Как известно, пути И.Бен-Цви и С.Я.Маршака в дальнейшем разошлись: первый стал президентом Израиля (1952 год), второй — русским поэтом. Но тогда, в 1906 году, под влиянием своего старшего друга, Маршак перевел гимн еврейского рабочего движения “Клятва” (даже и по тем временам это было не совсем безопасно!); в различных изданиях он печатал стихи на еврейскую тему: “О, рыдай”, “Инквизиция”, “Песня скорби” (вторично упомянем два стихотворения на иврите в вильнюсской газете “Азман”).
Стихотворение “Инквизиция” было написано в 1912 году и опубликовано в Петербурге в брошюре под рубрикой “Библиотека еврейской семьи и школы”. Может быть, это не самое лучшее его стихотворение, но мы приведем его полностью, ибо оно буквально проникнуто пророческим духом — говоря об инквизиции, Маршак как будто за три десятка лет предрекает, предчувствует, описывает Холокост:
На Пасху, встречая свой праздник свободы,
Под низкие своды спустились они.
Казалось, звучали шаги в отдаленьи,
И глухо дрожали крутые ступени,
И тускло горели огни.
Семья притаилась за скатертью белой…
Могучий и смелый, лишь он не дрожал
И встал он пророком в молчаньи глубоком,
И взором окинул подвал.
И тихо он начал: “Рабами мы были,
Но в темной могиле, в подвале немом
Мы гордо повторим: “Мы были, мы были,
Теперь мы тяжелое иго забыли —
И дышим своим торжеством!”
Пускай мы пред смертью, пускай мы в подвале —
Грядущие дали не скрыл этот свод
И нашей свободы никто не отнимет…
Пусть голову каждый повыше поднимет
И смерти бестрепетно ждет!
Мы были рабами! Мы были! Мы были!”
И вдруг позабыли свой ужас они:
Они не слыхали в минутном забвеньи,
Как глуше, сильней задрожали ступени,
И дрогнули робко они.
Вскочили… Столпились… Слетела посуда,
Как мертвая груда, застыли и ждут
И отперлись двери — и черные звери
По лестнице черной идут.
И сытый, и гордый
И с поступью твердой
Аббат выступал впереди…
Старик к нему вышел. Он стал у порога
Спокойный и гневный, как Посланный Богом
И замерли крики в груди!
И встретились взоры…
Ко второй половине десятых годов Маршак уже был известен как бойкий фельетонист (Доктор Фрикен) и как поэт, пишущий лирические стихи на библейские и иудейские темы. Его охотно печатали не только в газетах, но и популярном Сатириконе — журнале, в котором публиковались в ту пору лучшие литераторы России. Сотрудничая в Сатириконе, Маршак познакомился и подружился с Сашей Черным. Они подолгу беседовали на библейские темы. (Маршак тогда уже считался признанным мастером этого жанра, широко печатавшимся во множестве периодических изданий). Александр Михайлович мечтал издать свои Библейские сказки для детей (выпустил он эту книгу уже находясь за пределами России, но написал ее несомненно раньше, и влияние Маршака в ней безусловно. Небезынтересно заметить, что в те времена Саша Черный был детским поэтом, а Маршак был поэтом взрослым.
Выражаем благодарность дочери Матвея Гейзера Марине за предоставленные нашей редакции архивы известного писателя и журналиста, одного из ведущих специалистов по еврейской истории.
Окончание очерка следует













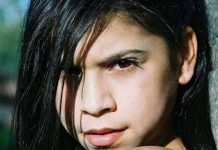




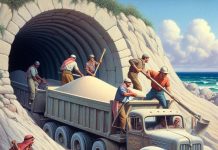


















Безграничное творщество Маршака настолько плодотворно что высвятившие грани гения отражаются всеми красками радуги и не затухали при в эпоху антисемитского мракобесии.