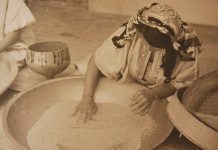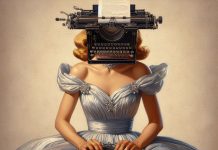Фрагмент из книги "Полное собрание впечатлений" (Сборник впечатлений, встреч и улыбок)
У меня есть такая притча:
Жил человек, имел дом, жену, детей. Надоело ему на Земле, захотелось в космос. Он построил за домом ракету, поджёг пороховой заряд — ракета взлетела и упала. Человек потерял сознание. Очнувшись, он решил, что это уже другая планета. Встал, огляделся, увидел дом, очень похожий на тот, что он оставил на Земле. Из дома вышла женщина, очень похожая на его жену, выбежали дети, похожие на его детей. Ему предложили войти, перевязали ушибы. Он остался в этой семье, в этом доме и прожил до старости. Всё было бы хорошо, но до конца своих дней он тосковал по тому дому, который оставил на Земле.
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Мы прилетели сюда решительными и одержимыми, привезли идеи, мускулы, идеалы — прилетели строить свою маленькую Планету. Но мы уже были заражены нетерпимостью, категоричностью, озлобленностью и завистью. Нас ведь с детства приучали к стадности, кто высовывал голову — её рубили: "Все равны, все одинаковы, все винтики… Чего ж он, падла, высовывается!? Ату его, ату! Тащи обратно в кучу!"…
Так хочется построить за домом ностальгическую ракету и рвануть обратно, в своё детство и молодость. Мы вспоминаем старых учителей в перелицованных бостоновых пиджачках; вспоминаем залитый светом предновогодний каток и тех, тоненьких и пугливых, впервые поцелованных под ёлкой; вспоминаем друзей, оставшихся в аэропорту с распахнутыми от отчаянья глазами… Поэтому нас так тянет туда, хоть не надолго, хоть на чуть-чуть. Нам кажется, что все крупицы прежней радости можно найти и подобрать, но увы… Старые учителя умерли, друзья разъехались, любовницы постарели. И сегодня, обострённо и нетерпимо, мы воспринимаем процветающее там всё то же вопиющее пренебрежение к человеческому достоинству и узаконенное беззаконие, от которого мы уже отвыкли. И тогда чётко и окончательно понимаем, что дом уже не там, а здесь, навсегда, до смерти. И радуемся этому, и с облегчением возвращаемся и… опять тащим за собой всё то, от чего бежали. И приходим в отчаянье, и снова строим новую ракету для отлёта и… так далее, читайте выше.
Что же делать?.. "Остановите Землю, я хочу сойти!". Не получится — у нас нет другой Земли. Можно без конца повторять, что евреям хорошо только в пути. Ну, а русским? Украинцам? Грузинам?.. Увы, от себя не убежишь, ни здесь, ни там. Нигде!
Мы вырвались из прежней жизни, теперь надо каждому вырваться из прежнего себя. Это трудно, это очень трудно. Мы чистим шкуры, из которых вылезли, пересыпая каждую нафталином воспоминаний, чтобы их не сожрала моль забвения. Мы понимаем, что по-старому жить уже нельзя, а по-новому — ещё не умеем, вот и живём в несогласии с собой, всё время оглядываясь назад, а шагать спиной вперёд — ох, как нелегко… "Знаете, кем я был там? Главным инженером!.. Главным врачом!.. Главным дворником!"… Создаётся впечатление, что в той нашей жизни не было рядовых врачей, рядовых инженеров и рядовых дворников — все были главными.
Однажды в редакцию "Балагана" ворвался активный пенсионер с требованием немедленно написать о нём статью: "Меня в Израиле не ценят. А знаете, кем я был там!?"
— Кем же вы были и где именно? — поинтересовался я.
— Я был первый человек у себя в Белой Церкви!
— В чём же заключалась ваша первость?
И он гордо сообщил:
— Я левой ногой открывал все задние проходы продуктовых магазинов!
И тут у меня вырвалась фраза, за которую мне до сих пор немного стыдно: чувство юмора сработало быстрей, чем "чувство стопа":
— Теперь я понимаю, почему вам трудно: в Израиле продуктовым педерастам делать нечего.
Именно тогда я подумал: хорошо бы типографским способом напечатать тысячи анкет о нашем прошлом, с обязательной графой: "Самый главный… Самый важный… Самый руководящий"… Мы их заполним, положим в стол и… поскорее забудем. И начнём всё с начала, перестав оплакивать самих себя. Давайте напряжём наши умные мозги и сильные мускулы. У поляков есть мудрая поговорка: "Делай что-нибудь, делай! А то заржавеешь, и рыжие дети будут!"
Мой давний Киевский друг Илья Лернер, зная, что я ищу спонсоров для реанимации "Балагана", познакомил меня со своим родственником Володей, крупным бизнесменом, бывшим москвичом, ныне израильтянином, имеющим фирмы не только в Израиле, но и в Европе, Америке, России. На наше свидание он пришёл вместе со своим компаньоном Мишей. Оба были молоды, каждому лет за тридцать, но, как я потом узнал, они очень грамотно вели дела, и оборот их фирм всё время возрастал.
Их вступительная речь была, приблизительно, такой:
— Саша, мы хотим, чтобы русский юмор жил и процветал в Израиле, чтобы наши дети узнали его и полюбили.
И они процитировали несколько фраз из вышедших номеров "Балагана".
— Откуда вы их знаете? — удивился я.
— Нам присылали ваши журналы. Итак, когда вы сможете начать выпуск?.. Сколько времени понадобится, чтобы вывести журнал на плюс?.. Сколько вам для этого нужно денег?
Когда я ответил на все эти вопросы, они задали следующий:
— Какой вам нужен офис?
— Мне хватит двух комнат.
— Двух мало, вам нужно принимать людей — необходим ещё и престижный кабинет. Мы вам снимем три комнаты и закажем хорошую мебель. Сотрудникам — чёрную, вам — белую… Для журнала нужен новый компьютер, принтер, факс, ксерокс… Всё это у вас будет. Завтра мы откроем в Израиле филиал нашей фирмы, назначим вас директором и главным редактором. Вы — наш равноправный партнёр, прибыль — на троих. Но учтите: мы — деловые люди: вы назвали условия, мы их принимаем. Сейчас январь. В декабре вы получаете последнюю порцию денег. А дальше — в свободное плавание!..
Честно говоря, я был ошеломлён этим размахом.
— Ребята, вы оказываете такой кредит доверия, что меня это даже немножко пугает: а вдруг я не выведу журнал на плюс?
— Выведете!.. Мы в вас верим… А пока — угостите нас крепким чаем и по ложечке сахара.
— После того, что вы мне даёте, я могу вам положить даже по две ложки.
Во время чаепития я рассказал, как в редакцию приходила делегация бабушек и дедушек, чуть не со слезами жаловались, что теряют внуков, которые уходят в иврит и уже не понимают стариков. Они пришли уговорить нас выпускать ещё и детский юмористический журнал, чтобы сохранить детям русский язык.
— Мы уже подготовили макет такого журнала — "Балагаша", — осторожно сообщил я своим будущим компаньонам. — Вы не возражаете, если мы и его будем издавать?
— Саша, запомните: вы не должны нас спрашивать, мы в этом не разбираемся, это — ваш бизнес. Мы оплачиваем вашу голову, вашу фамилию, ваши связи — а дальше уже всё решаете вы: выпускать один журнал, или два, или полтора…
— Когда мы подпишем договор?
— Договора не надо. Пожмём друг другу руки и — с Богом! Нашему слову можно верить.
И я в этом убедился: через неделю мы въехали в трёхкомнатный офис, обставленный заказной мебелью. У нас появился новый компьютер, принтер, факс, ксерокс… И каждый месяц, в обусловленное время на наш счёт приходили деньги из Праги, где располагался главный офис их фирмы.
Однажды по радиостанции "Рэка" шла передача о моей повести "Тэза с нашего двора": я отвечал на вопросы ведущего и читателей, звучали песни из спектаклей, поставленных по этой повести, актёры читали фрагменты из неё. Буквально через пять мину мне в редакцию позвонила какая-то дама и заявила примерно следующее: "Я в Израиле уже более сорока лет, русские книги не читаю, русские фильмы не смотрю. Но сегодня, подъезжая к дому, случайно услышала по радио передачу о вас и вашей повести и не выходила из машины, пока не дослушала до конца. Мне очень, очень понравилось, я просто удивлена"…
— Чему вы удивлены? — разозлился я.- Тому, что в России могут быть неплохие писатели, композиторы, актёры?..
— Но я, действительно, не знала…
— А как вы могли знать, если уже сорок лет ничего российского не читаете и не смотрите!
Она помолчала, потом ответила:
— Вы правы. Давайте повидаемся — возможно, я ваша родственница: моя бабушка была Каневская.
В течение первых лет пребывания в Израиле у меня объявилась целая армия двоюродных тётушек, троюродных дядюшек и пятиюродных братьев, которых я никогда не знал, не видел и не слышал, но все они претендовали на внимание и очень обижались за то, что я не откликаюсь на их призывы. Я решил, что моя собеседница — одна из них, и ответил очень расплывчато. Но она настойчиво продолжала звонить и звать в гости. Наконец, мы согласились и встретились у неё на вилле, в живописном посёлке Кесария, на берегу моря. Её звали Анна Лотан, она оказалась владелицей известной парфюмерной фирмы "Анна", чьи изделия продавались не только в Израиле, но и в других разных странах. Ей было уже за шестьдесят, но она прекрасно выглядела, её лицо было гладким, красивым, без морщин — живая реклама собственной продукции. Она сама основала эту фирму, сама вырастила двух детей, сама построила эту виллу — сильная, энергичная, весёлая и даже озорная.
Когда я её увидел, то сразу поверил в наше родство: у неё было явное сходство с папиными сёстрами. Она же обрадовано воскликнула, что у меня глаза её бабушки. Весь вечер мы искали дополнительные доказательства: каждый рассказывал подробности о своей семье, сравнивали ступни, пальцы, косточки на руках… Но, когда она повезла нас покататься по Кесарии, а потом, возвращаясь, стала искать дорогу домой, Майя уверенно воскликнула: "Всё! Можете больше не сомневаться, вы — родственники: вы одинаково кошмарно ориентируетесь!". Мы засмеялись, обнялись, и Аня стала частым гостем на наших семейных торжествах, а мы на её.
В первые годы пребывания в Израиле ко мне подходили на улицах новые репатрианты, радовались встрече, пожимали руки, наперебой приглашали на выступления в разные города, на моих творческих вечерах всегда были полные залы.
Израильтяне были в шоке от того, что творческие вечера писателей могут собирать большие аудитории. Организация "Аманут Леам" ("Искусство народу"), чтобы познакомить выходцев из СССР с литературой на иврите, в первые годы устраивала вечера, в которых участвовали два-три израильских писателя и я, который выполнял роль червячка-приманки (Не потому что я был лучше — просто русские читатели меня знали, а их нет). Поначалу снимали для этого залы вместимостью в 100-150 человек и были в ужасе, когда народа являлось в три-четыре раза больше: начинали менять помещение, доставать микрофоны и так далее…
Вспоминаю, как я выступал в городе Кармиэле, один, в зале на семьсот мест, которые были все раскуплены. Мэр города в это не поверил, пришёл убедиться и просидел всё первое отделение вместе со зрителями. В антракте мы познакомились. "Чего ты сидел, ничего не понимая?" — спросил я. Он ответил: "А я получал удовольствие оттого, что все смеются"…
Забегая вперёд, добавлю: так было, было. Но теперь, когда прошло много лет, когда по телевизору можно посмотреть десятки русских программ, когда сегодня московские гастролёры атакуют Израиль активнее, чем арабские террористы — при всё ещё ощутимой любви и внимании читателей, я уже не соберу зал на семьсот мест, потому что, как однажды сказал мне замечательный, ныне покойный бард Женя Клячкин: "Мы стали своими, постоянными, нас даже можно пощупать, с нами можно встретиться и завтра, и послезавтра… — и с лёгкой грустью добавил. — Впрочем, наверно, это нормально и естественно"…
Для первых выпусков журналов у меня был запас: и рассказы, и шуточные стихи, и афоризмы — ими снабдили Эдик Успенский, Аркадий Арканов, Григорий Горин, Володя Вишневский… Была папка шикарных карикатур Михаила Златковского, Милана Стано, и Пескова, и Дубова… И, естественно, было много моих собственных рассказов. Но я не хотел делать в Израиле Российский журнал — стояла задача выпускать Израильский журнал на русском языке. Ещё в Москве меня пугали, что вдали от материка Русского юмора это не возможно, что уже были неудачные попытки и в Германии и в Америке… "На что ты рассчитываешь?" — спрашивали меня. Я легкомысленно отвечал: "Евреи талантливы — буду им об этом напоминать". Но, когда начался регулярный выпуск журналов, я понял, что собрать авторский актив не так просто, а без него я не обойдусь, и обратился к читателям с призывом:
— Ребята! Мы с вами очень сильные люди, мы преодолели свои сомнения, страх, опасения… Выдернули себя из привычной среды, сорвались с насиженных мест… Мы — победители самих себя, а это самое трудное. Но мы не благодарны: мы забыли о тех, кто помогали нам принять это решение, ускоряли его, подталкивали… Мы забыли о российских антисемитах, а они так старались!.. Они и сейчас продолжают эту свою неутомимую деятельность, но им трудно, у них очень ограниченный словарный фонд: ну, "жид пархатый", ну, "жидовская морда" — и всё! Давайте поможем им, создадим "Словарь антисемитов", опубликуем и отправим обществу "Память" — пусть пользуются!..
Представляете, с каким нетерпением и опасением я ждал откликов, но когда они пришли, успокоился и поверил, что авторскому активу быть, потому что приехали очень остроумные люди. Приведу для примера несколько фраз из присланных для "Словаря антисемитов":
"Жидомуссоны — евреи, унесённые ветром", "Жид взаймы — фиктивный брак с евреем", "Рабинушка — русская жена Рабиновича"…
Круг авторов "Балагана" и "Балагаши" постепенно расширялся.
Тиражи обоих журналов росли, причём, "Балагаша" даже обогнал "Балаган". И это было не случайно: его раскупали папы и мамы, дедушки и бабушки, которые хотели, чтобы их дети не забывали русский язык. Все первые "Балагаши" иллюстрировала моя внучка Поля. Впервые увидев в журнале главу из своей повести "Трое из Простоквашино", Успенский был приятно удивлён:
— Эта книга переведена на многие языки, её иллюстрировали много разных хороших художников, но таких ярких рисунков не было. Кто это делает?
— Девочка двенадцати лет, — ответил я.
Он был поражён.
— Ты меня обманываешь?
— Клянусь!
Он помолчал, потом помахал перед моим лицом пальцем:
— Только не давай ей советов!
У нас уже было много своих подписчиков не только в Израиле, но и в Америке, в Европе, в Австралии. Даже из Японии пришёл чек с запиской: "Банзай гезунд!". (На идише "Зай гезунд" — пожелание здоровья, "Банзай гезунд" — это уже японский вариант).
* * *
К концу года, где-то в декабре, оба моих спонсора были в Израиле и мы встретились.
— Подведём итог, — сказал Володя, когда я подробно поведал ему все перипетии нашей жизни, — бизнеса не получилось, но имидж журналам ты создал: их взахлёб читают в Праге все наши друзья, а русскоговорящие посольства: России, Украины, Грузии, Молдавии, Белоруссии — чуть ли не со скандалом требуют от нас очередные номера "Балагана" и "Балагаши". (Мы ежемесячно отправляли им в Прагу по десять журналов каждого выпуска).
— Как собираешься жить дальше? — спросил Миша.
— Это уже моя проблема — вы свои обязательства выполнили.
— Ну, что ж… Барахтайся дальше!
И я барахтался.
Однажды, во время муниципальных выборов, ко мне позвонили из штаба Рони Мило, одного из претендентов на пост мэра Тель-Авива, и предложили встретиться для переговоров об участии в предвыборной компании. Я объяснил, что политикой не занимаюсь и повесил трубку. Вечером того же дня позвонил Дани Миркин:
— Рони узнал, что мы с тобой друзья и просил повлиять на тебя. Я его давно знаю, мы вместе учились и сотрудничали. Он — хороший человек, любит искусство, он много сделает для русской культуры. Ты должен ему помочь, он заплатит любые деньги…
— Дани, — прервал я его, — если ты просишь, я это сделаю без всяких денег. Только пусть он даст объявление в газете, что в такой-то день в зале "Бейт-Цион Америка" (Это очень престижный зал в центре Тель-Авива) состоится мой творческий вечер вместе с редакцией журнала "Балаган". Ты приведёшь его туда, я скажу о нём добрые слова, и он выступит перед зрителями.
В назначенный день этот вечер состоялся. Претендент в мэры опоздал минут на двадцать и, как рассказывал потом Дани, был поражён, увидев толпу желающих проникнуть вовнутрь — но их не пускали, потому что зал уже был забит до отказа.
Когда Рони Мило появился в зале, я произнёс монолог, который, конечно, подробно уже не помню, но суть его была такая:
— Я не люблю политику, всегда избегал политических деятелей, какие бы посты они не занимали. Для меня главным достоинством человека является его чувство юмора. Как говорил Валентин Катаев, чувство юмора — это мера таланта, и я с ним полностью согласен. Поэтому я пригласил участвовать в нашем вечере человека, обладающего большим чувством юмора: об этом говорит тот факт, что он сам, добровольно, идёт в мэры Тель-Авива.
В зале засмеялись, зааплодировали, Рони вышел на сцену и очень мило и забавно приветствовал присутствующих, даже рассказал какой-то смешной израильский анекдот. (Я предварительно предупредил, чтобы он не говорил о том, как любит выходцев из России и не рассказывал про свою русскую прабабушку: все израильские чиновники, выступая перед нашими репатриантами, начинали рассказывать о своих российских корнях). Когда, под аплодисменты зрителей они с Дани покидали зал, я призвал в микрофон:
— Какие б мэры у нас не были, лучше мы жить не станем, так давайте выберем мэра с чувством юмора — хотя бы посмеёмся!
Рони Мило стал мэром, набрав на три процента больше голосов, чем его соперник. Недели через две мне позвонил Дани и сказал, что Рони хочет меня видеть. Когда мы вошли к нему в кабинет, он сразу после рукопожатия произнёс:
— Я знаю, что эти три процента мне сделал ты. Я понял, что ты многое можешь — я хочу с тобой дружить.
— Я тоже хочу дружить с тобой, Рони, — ответил я. — А это — повод для нашей дружбы. — И я протянул ему заранее подготовленный и переведенный на иврит проект создания Международного Центра Юмора, в котором был и пункт о проведении Международного Фестиваля Смеха в Израиле. Рони минуты три листал страницы. Потом спросил:
— Что даёт Израилю проведение Международного фестиваля?
— Во-первых, это политическая акция: нас мало, вокруг нас миллионы врагов, а мы будем смеяться и экспортировать смех…
— Молодец! — он чуть ли не подпрыгнул на стуле. — Здорово!
— Но это не всё. Международный Фестиваль — это ещё и большой бизнес.
— Ты имеешь ввиду гастроли "звёзд"?
— Не только! Это деньги от торговых фирм за использования эмблемы фестиваля на своей продукции, это продажа зарубежным телеканалам права трансляций фестивалей, это и подскок туризма, и строительство новых гостиниц, и…
Словом, как прокомментировали бы нашу беседу Ильф и Петров, "Остапа несло". Мэр был сражён.
— Что тебе надо, чтобы открыть свой Центр?
И тут я, на голубом глазу, произнёс:
— Дай мне квартал в Старом Яффо.
Рони рассмеялся и бросил в сторону Дани:
— У него хороший аппетит!
Но я не унимался:
— Дай, не пожалеешь: это будет самый весёлый квартал в Тель-Авиве!.. Туда начнут привозить туристов.
— Не могу, Саша, не проси. Но помещение для Центра Смеха я тебе предоставлю.
— Мне нужен большой офис.
— Он у тебя будет.
— Когда? Завтра? Через год?.. Леат-леат? Савланут?.. Я тебе не верю.
— Почему?
— Потому что у нас в стране уже давно перевыполнили план по количеству обещаний на душу населения!
Я и вправду не поверил его обещанию, но через месяц мне позвонили из Мэрии:
— Приходите посмотреть помещение и получить ключи.
Мы примчались и обомлели: нам предоставили дом в два с половиной этажа в самом центре Тель-Авива, у входа в центральный рынок "Кармель". Раньше здесь помещалось отделение банка: из полов торчали обрезанные кабели, в стенах чернели следы от вынутых кондиционеров, дом требовал ремонта, но это был наш дом, наш — и через неделю мы в него переехали… Две верхние комнаты (из которых мы сделали три), стали редакцией "Балагана" и "Балагаши", холл второго этажа был переоборудован в галерею — там проходили выставки художников-карикатуристов, большую комнату на полуторном этаже мы приспособили под репетиционный зал для детского музыкального театра "Балагаша". Но главным был большой зал внизу. Мы нашли богатеньких ребят, которым предложили: вложите деньги в переоборудование и ремонт этого зала под кафе — и мы его отдадим вам его в аренду без всяких денег. Только, когда здесь будут проходить праздники и творческие вечера, вы должны будете подавать нашим гостям воду и кофе. Если потом гости закажут ужин и выпивку — это всё будет заработком хозяев кафе. Ну, и остальные дни месяца — тоже ваши.
Обалдевшие от таких выгодных условий, эти ребята радостно согласились. Оформляли кафе мои друзья, замечательные художники Галя и Юра Кармели, давно уже живущие в Израиле. Оформили с выдумкой и большим вкусом: доминировали три цвета: зелёный, чёрный и золотой. Я попросил их: "Поскольку мы находимся рядом с рынком, добавьте примитива и кича". И через неделю на стенах появились смешные и трогательные лица Шолом-Алейхемских тонкошеих скрипачей, пьяных мясников, кокетливых местечковых барышень… А снаружи, под светящейся вывеской "Международный центр Юмора "Балаган", в огромной стеклянной витрине, красовались фотопортреты всех самых известных "звёзд" нашего жанра: Райкина, Тапапуньки и Штепселя, Жванецкого, Карцева, Горина, Арканова, Гердта, Новиковой, Винокура, Ширвиндта и Державина… У этой витрины всегда толпились туристы, фотографировали её и с интересом заглядывали внутрь.
Через самое короткое время наш Центр стал популярен, о нём писали, его посещали, туда приводили приезжие делегации … Постепенно сформировался актив постоянных посетителей. Каждый раз, когда в Израиле выступали известные гастролёры, я забирал их после спектаклей или концертов и привозил на встречу с нашей публикой. Небольшой зал, мест на восемьдесят, всегда был забит, билетов не было, и по телефону раздавались возмущённые голоса: "Как вам удаётся создать в Израиле дефицит!?".
Людей привлекали не только приезжие знаменитости, но и наши "фирменные" придумки: "Вечер анекдотов при свечах" — его вёл мой брат Лёня, там победителю вручалась свежезажаренная курица, которую он тут же, в луче света, прилюдно поедал; аукционы, на которых разыгрывалась водка "Каневская", ликёр "Левинзоновый", наливка "Губермановка", с яркими наклейками, на которых красовались все перечисленные физиономии; наш обычай встречать гостей рюмкой водки и мацой с солью, и так далее, и так далее… Постоянными посетителями были сотрудники посольств, руководители авиакомпаний, журналисты, актёры и представители разных других профессий — любители юмора. Первый Российский посол в Израиле Александр Бовин имел своё постоянное место, постоянный фужер водки и постоянную закуску. За время его визитов мы подружились и, когда завершилась его каденция, он, прощаясь, сказал:
— С моим отъездом, Саша, у тебя освобождается одно место.
— Два места, Саша, два, — уточнил я, имея в виду его солидную фактуру.
В "Балагане" побывали и Михаил Жванецкий, и Роман Карцев, и Валентин Гафт, и Юлик Гусман, и Лия Ахиджакова, и Юлий Ким, и Александр Ширвиндт, и Михаил Державин… Вспоминаю, как Ширвиндт сопротивлялся, не хотел ехать, я чуть не насильно втащил его в машину после спектакля. Всю дорогу он ворчал: "Ненавижу выступать в ресторанах! Они будут кушать суп, а мы их развлекать!.." Но когда он увидел, с какой любовью и пониманием воспринимает наша публика их выступление, я его уже не мог его стащить со сцены, хотя он знал, что наверху давно накрыт стол, стоит выпивка и стынет закуска…
Через шесть месяцев агентство "Роспечать" продлила с нами договор, потом ещё и ещё. В общей сложности, они более трёх лет продавали наши журналы по всей территории бывшего СССР, и тираж журналов постепенно увеличивался. Воодушевлённые этим, мы стали издавать ещё и сатирическую газету "Неправда", которую "Роспечать" тоже взяла в распространение. Всё это только частично окупало наши расходы на издание, но, увы, никакой прибыли не давало, потому что очень дорого стоила отправка журналов в Москву, таможня, разгрузка, погрузка, доставка из аэропорта в агентство. Мои ребята получали зарплаты раз в два-три месяца, а я — не получал и по полгода.
(Когда спустя семь лет я закрывал журналы, в налоговом управлении спросили: "Фирма должна вам восемьдесят тысяч шекелей — это вы им одалживали?.. — Нет, — ответил я, — это неполученная мной зарплата").
Но всем нашим авторам, почти до последних дней существования журналов, мы платили аккуратно: каждого пятого следующего месяца за предыдущий.
(Вспоминаю смешной эпизод: в Израиль прилетел эстрадный артист Лев Горелик, с которым мы часто встречались в той жизни, и у нас были добрые дружеские отношения. Он пришёл ко мне в редакцию повидаться и, смеясь, рассказал: "В первый же день приезда я спросил, как дела у Каневского. Мне ответили, что пока — хорошо, но скоро журналы закроются. Я удивился: почему? И мне объяснили: он платит гонорары вовремя").
В каждом номере "Балагана" было моё вступление — "Слово редактора", иногда весёлое, иногда грустное, иногда ироничное, но всегда с зарядом оптимизма. В Израиле эти статьи очень нравились, я получал много откликов, меня просили издать их отдельной книжкой. Когда журналы разлетелись по странам СНГ, у меня возникло чувство тревоги: а как их воспримут там, на моей бывшей родине?.. Но пошли первые письма, и мои опасения развеялись: отклики приходили из Курска, Хабаровска, Свердловска, Харькова: "Вы думаете, что пишете для эмигрантов в Израиле?.. Нет! Вы пишете и для нас, живущих в России, в Украине, в Молдавии… Мы — эмигранты на своей земле, мы тоже вышиблены из привычной жизни, растеряны, почва уходит из-под ног… Спасибо за глоток надежды и оптимизма!"… Не стану скрывать: получать такие письма было очень приятно.
Конечно, журналы забирали у меня и время, и мысли, и нервы… Я прервал работу над продолжением повести "Тэза с нашего двора", перестал обдумывать сюжеты новых пьес, рассказов, киносценариев… Единственно, куда я вырывался — это на встречи с читателями, на свои творческие вечера, которые давали мне хоть какой-то заработок. Правда, половину его я отдавал в кассу редакции, потому что денег всегда не хватало.