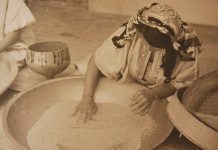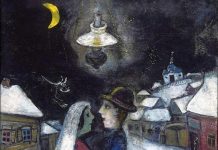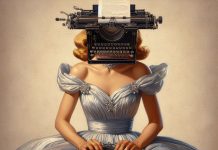К 130-летию со дня рождения выдающегося поэта и переводчика
Давид ШИМАНОВСКИЙ
Маршак широко известен как поэт и драматург, переводчик, сценарист и критик. О еврейском аспекте его жизни и творчества советские источники, да и он сам умалчивали. Лишь после развала СССР открылась и эта страница его биографии.
ГЛУБОКИЕ КОРНИ
22 октября 1887 г. в воронежской слободке Чижовка в семье Якова Мироновича Маршака и его жены Евгении Борисовны (в девичестве Гительсон) родился сын Самуил, у которого был старший брат Моисей, а позже появились младший брат Илья и сестры Сусанна, Юдифь и Лия. После долгих скитаний семья поселилась в Витебске, где жил дед Бер Абрамович Гительсон – учитель гимназии и казенный раввин. Самуил шутил о Витебске:
«В этом удивительном местечке даже лошади говорили на идише».

Яков Маршак был уроженцем местечка Кайданов, где еще в XVII в. жил его предок, мудрец Аарон Шмуэль бен Исраэль Кайдановер. Спасаясь от казаков, он с семьей бежал в Люблин, где на его глазах убили обеих дочерей и сожгли бесценную библиотеку. Но веру в Бога раввин сохранил и передал старшему сыну Аарону, который впоследствии стал известным талмудистом. Во времена Б. Хмельницкого он тоже был вынужден бежать, но погромы настигли и его семью: дочери были убиты, он сам остался нищим инвалидом. Его единственный выживший сын угодил вместе с семьей в виленскую тюрьму. Своим внукам он внушал заповеди Всевышнего народу Израиля. Этой преемственностью, вероятно, объясняется еврейская тема в творчестве Маршака. Полагают, что его фамилия является акронимом ивритской фразы «Морэйну рабби Шмуэл Кайдановер» («Наш учитель ребе Шмуэль Кайдановер»). По другой версии, она связана с жившим в XVIII–XIX вв. раввином Шломо бен Иегудой Аароном Клугером – «Морэйну hа-рав Шломо Клугер».
ОТЦЫ И ДЕТИ
У Мирона Маршака, деда поэта, было два сына – Семен и Яков. Семен стал инженером, его дочь Нина вышла замуж за деятеля Коминтерна И. Пятницкого, затем – за предсовнаркома А. Рыкова. Всех троих расстреляли в 1938 г. Брат Нины Филипп пытался отмежеваться от сестры, но это не спасло его от расстрела. Их мать Цецилию после смерти Сталина выпустили из ГУЛАГа и реабилитировали, а ее внук Михаил Шатров стал известным советским драматургом.
Иначе сложились судьбы Якова и его детей. Глава семьи сперва трудился мастером на мыловаренном заводе. «Но работа на мелких кустарных заводишках не удовлетворяла одаренного человека, который самоучкой постиг основы химии и непрестанно занимался разными опытами, – вспоминал Самуил Яковлевич. – В поисках лучшего применения своих сил и знаний отец с семьей переезжал из города в город». Вопреки трудностям, Маршаки дали детям хорошее еврейское воспитание и образование. Самуил писал:
Мы не знали ни палки, ни плетки.
Наш отец нас ни разу не бил.
Человек он был строгий, но кроткий.
И хорошую книжку любил.
Старший сын Моисей с золотой медалью закончил Острогожскую гимназию под Воронежем, затем Петроградский политехнический институт, работал экономистом. «С молодости он взял на себя заботу о младших братьях и сестрах, заменив им отца, – писала его дочь Евгения. – Эту заботу постоянно чувствовала и семья Самуила Яковлевича, не сразу вставшая на ноги». Младший из братьев, Илья, став инженером-химиком, заведовал лабораторией на заводе, но вынужден был уволиться из-за туберкулеза и занялся сочинением научно-популярных книг для детей. Младшая сестра Лия тоже выбрала литературную стезю – писала для детей и юношества, за что и пострадала как «враг народа».
Наиболее высоко поднялся Самуил. Сочинять стихи он начал в четыре года. В шесть лет, живя у дедушки в Витебске, освоил основы иврита. Первые школьные годы Сема провел в Острогожске у дяди Михаила Гительсона, травимый улицей как «жид». Сдал вступительные экзамены в гимназию на пятерки, но принят был не сразу из-за процентной нормы. В младших классах перевел на русский язык поэму Горация, пытался издавать рукописный журнал.
В 1900 г. отца перевели в Петербург, но детям попасть в столичную гимназию было нелегко. Старшие сыновья остались доучиваться в Острогожске, а на каникулах уезжали к родителям. Там летом 1902-го Сема выступил на даче с чтением стихов. Восхищенный меценат барон Давид Гинцбург познакомил подростка с Владимиром Стасовым, который был покорен юным дарованием. «Дедушка русской критики» стал другом и наставником Самуила. Он устроил его в петербургскую гимназию и поручил сочинить шуточную оду во славу «четырех богатырей» – Репина, Шаляпина, Горького, Глазунова, навестивших Стасова. Величание имело успех, а Горький, узнав, что у Маршака плохое здоровье, пригласил его к себе в Ялту – подлечиться и продолжать учебу в местной гимназии.
ЗОВ ПРЕДКОВ
Стасов пробудил в Маршаке жажду сочинять на еврейские темы. Он писал 15-летнему подростку: «Милый Семушка, чего я тебе желаю и чего больше всего боюсь и на что надеюсь: что ты никогда не переменишь своей веры, какие бы ни были события и обстоятельства, люди и отношения». По его просьбе Самуил написал в библейском духе текст к кантате Глазунова и Лядова в память о скульпторе Марке Антокольском.
В 1904 г. Маршак опубликовал в петербургском ежемесячнике «Еврейская жизнь» элегии «20 таммуза» и «Над открытой могилой», посвященные кончине Теодора Герцля. В Ялте он сблизился с молодежной организацией сионистов-социалистов «Поалей Цион», перевел на русский язык гимн сионистского рабочего движения «Ди Швуэ», сочинил в том же духе ряд стихотворений, перевел с иврита Песнь песней и с идиша – поэму Бялика «Последнее слово». В период революции 1905 г. Маршак с тревогой сообщает Стасову: «Получил известие о страшных погромах… Что то будет? Ведь евреям и обороняться нельзя!» Став свидетелем юдофобских бесчинств, пишет:
Словно выжглись в тревожном мозгу
Эти крики, предсмертные стоны…
Засыпает весь мир упоенный –
Но рыдает напев похоронный…
И заснуть не могу, не могу!
Спасаясь от царской охранки, Маршак вслед за Горьким уезжает из Ялты в Петербург. Журналы «Еврейская жизнь» и «Еврейский мир» помещают его стихотворения на библейские и национальные темы. А в 1907-м в его сборнике «Сиониды» появились строки:
Снится мне: в родную землю
Мы войдем в огнях заката
С запыленною одеждой,
Замедленною стопой…
И войдя в святые стены,
Подойдя к Ерусалиму,
Мы безмолвно на коленях
Этот день благословим…
Спустя четыре года мечта Маршака осуществилась: вместе с группой молодых сионистов он в качестве корреспондента питерских газет совершил полугодовое турне на корабле по Восточному Средиземноморью, побывал в Турции, Греции, Сирии и Палестине. Под впечатлением странствий по Земле обетованной рождается романтический цикл, в котором Маршак, в частности, славит древнюю столицу евреев:
Во все века, в любой одежде
Родной, святой Иерусалим
Пребудет тот же, что и прежде, –
Как твердь небесная над ним!
В той поездке Маршак влюбился в красавицу из Литвы Софью Мильвидскую, которая вскоре стала его женой и спутницей жизни на 42 года. Их «свадебным путешествием» стала поездка в Англию, где оба учились в Лондонском университете: он – на факультете искусств, она штудировала естественные науки.
В годы Первой мировой войны Маршак участвовал в организации помощи детям еврейских беженцев, написал о них стихотворение «Менделе. Обитель для изгнанников…». В сборниках сионистского издательства «Сафрут» тогда же были опубликованы его переводы ивритской поэзии.
«МАРШАК СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
Так в честь 75-летия подобострастно титуловал мэтра С. Михалков – один из многих, кому юбиляр дал путевку в литературную жизнь. У знаменитого поэта и без того хватало регалий: четыре Сталинские премии и одна Ленинская, два ордена Ленина, ордена Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени и т. д. Правда, Героем соцтруда он все же не стал, хотя стоял у истоков новой детской литературы, организовывал книжные издательства, журналы, создавал поэтические шедевры, умеренно славил советский строй. Но при этом подвергался нападкам критиков за «дефицит идейности» и «аполитичность».
В конце 1930-х Маршака не раз вызывали на собрания и комиссии, где ему приходилось выслушивать, как клеймили позором коллег и его самого. От него требовали отречься от репрессированных родственников и друзей, но на это он не пошел. Созданный им Лендетиздат был разгромлен, его ученики, сотрудники, авторы уволены или арестованы. Некоторых ему удалось уберечь от дальнейших преследований.

Неожиданно, вероятно по указке Кремля, Маршака переводят в Москву, дают ему квартиру и даже предлагают дачу расстрелянного Бабеля, от которой он отказался.
В годы Второй мировой Самуил Яковлевич писал сатирические стихи и памфлеты, отдал литературную премию на постройку танка, активно участвовал в работе Еврейского антифашистского комитета.
После войны Маршака сперва осыпали наградами, затем подвергли травле за «космополитизм» и «еврейский национализм». В Московском горкоме партии ему припомнили дореволюционные сионистские стихи, а пресса обвинила его вместе с А. Барто и Л. Кассилем в «евреизации» русской детской литературы. В списках подозреваемых по «делу ЕАК» его имя стояло рядом с именами И. Эренбурга, В. Гроссмана, М. Блантера и Б. Слуцкого. Многие произведения поэта на еврейские темы, написанные в советское время, долго не печатали. С трудом удавалось ему публиковать переводы идишских поэтов. Маршак не побоялся выступить в защиту Солженицына, Бродского и иных опальных авторов.
Руководствуясь устоями иудаизма, Самуил Яковлевич верил в добро и справедливость. Его внук археолог Алексей Сперанский, профессор Иерусалимского университета, утверждал: «Дед с самого детства был глубоко верующим человеком… В условиях жесточайшего политического и морального гнета он решал для себя громадную личностную проблему: как оставаться праведником и быть поэтом в стране зла. И стал писать для детей и переводить… Когда он умер, у него под подушкой нашли до дыр зачитанные Псалмы Давида».

Могила С.Я.Маршака. Фото: Wikipedia / Сергей Семёнов
Однажды Маршак ошеломил собеседника вопросом:
«Вы читаете Талмуд? Не представляю жизнь без этой книги. Есть в ней такие слова: „Человек приходит в мир со сжатыми ладонями и как бы говорит: весь мир мой, а уходит из него с открытыми ладонями, и как бы говорит: смотрите, я ничего не беру с собой“».
"Еврейская панорама", Берлин