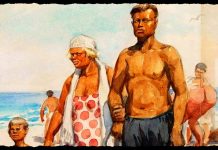Настигнет ли проклятие Евфросиньи Полоцкой истинных виновников исчезновения знаменитой реликвии, изготовленной еврейским мастером Лазарем Богшей?
Сергей АНТОНОВ, г. Быхов Могилевской области
КНЯЖНА-ИГУМЕНЬЯ
"…Косые лучи заходящего солнца проникали в келью через узкое стрельчатое окно и освещали дубовый стол, сплошь уставленный глиняными плошками с отварами ольховой коры, порошком ржавчины и вишневым клеем. Молодая монахиня время от времени смешивала эти ингредиенты, чтобы получить аграмант — тогдашние чернила. Сейчас Евфросинья работала над орнаментом, украшающим заглавную литеру текста. Опершись локтем левой руки на колено, девушка держала пергамент на ладони и тщательно выводила мелкие детали. Монастырскую тишину нарушил мерный перезвон колоколов. Монахиня аккуратно присыпала свежий текст песком и вышла из кельи. По длинной крытой колоннаде в молчаливой сосредоточенности двигались сестры, спешившие к вечерней молитве… "Древнейший город Беларуси Полоцк был центром княжества, которое в силу выгодного географического положения стало одним из самых богатых и независимых государств на землях восточных славян. Стабильность полоцкого княжества подтверждает тот факт, что целое столетие им правили только два князя: Братислав и его сын Всеслав. При последнем был построен Софийский собор, третий по величине храм на восточнославянских территориях, символизировавший равноправие Полоцкого княжества с Киевским и Новгородским. "Звонят к заутрене в Полоцке, а в Киеве колокола слышны, — говорили в те времена. Высочайший уровень развития ремесел, письменности, особенности идеологии дают основания считать Полоцкую землю не только прародиной белорусов, но и колыбелью белорусской культуры. Здесь, среди голубых озер, на живописных берегах могучей Двины в 1110 году родилась девочка. Ей было суждено навеки войти в историю нашей страны, быть причисленной к лику святых и присоединить к своему имени название родного города. Легенда, которая берет свое начало в XII веке и тянется до наших дней, была бы не полной без рассказа о такой яркой личности как Евфросинья Полоцкая. Дочь Всеслава, Предслава, имела не только все условия для получения хорошего образования, но и обладала острым умом, наблюдательностью, недюжинными способностями. С раннего детства девочка, зачитывалась как героико-приключенческими эпосами, так и богословской литературой. К двенадцати годам Предслава считалась одной из самых образованных, красивых и богатых невест своего времени.
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
"…Суровое, аскетически бледное лицо вдовы князя Романа Всеславовича и тетки Предславы при виде коленопреклоненной племянницы смягчилось. Игуменья печально улыбнулась и положила ладонь на голову девушки.
— Чадо мое! Как могу такое сотворить? Как могу навлечь гнев брата моего и твоего отца? Ты еще юна возрастом, не сможешь понести все тяжести многотрудного монашеского житья. Как оставишь княжение и славу мира сего? Предслава подняла глаза, в которых блестели слезы. Голос юной княжны был тихим, но наполненным непоколебимой уверенностью. Он отражался от увешанных иконами стен покоев игуменьи.
— Чего достигают люди? И женятся и замуж выходят… Вся жизнь мимо них течет! Слава, владычество? Все рассыплется подобно праху и покроется паутиной! Но есть ведь и такие, чья шея подобно железу: никогда не склонится! Мечом духовным, отсекают от себя плотские утехи и оставляют на земле память о делах своих добрых…". Тайно от отца Предслава принимает постриг. Новое имя невесты Христовой — Евфросинья. Уверенная в своем высоком предназначении она начинает широкомасштабную просветительскую деятельность, продолжавшуюся более пятидесяти лет. Евфросинья селится в келье Софийского собора, где занимается переписью книг — исключительно тяжелой, мужской работой. Подвижница и сама пишет книги, ведет обширную переписку с известными авторами-современниками. Часть книг переписанных и написанных молодой монахиней остается в монастырской библиотеке. Остальные продаются, причем вырученные деньги Евфросинья раздает беднякам. Стремясь создать новые очаги культуры, полоцкая просветительница, став игуменьей, основывает мужской и женский монастыри, где книги переписывают уже десятки человек. Одновременно, стараниями Евфросиньи открываются школы, в которых дети, помимо обязательных предметов изучают даже греческий и латинский языки. В середине XII века игуменья решает строить собор для своего монастыря и приглашает для этого лучшего из полоцких мастеров. Спасо-Преображенская церковь, вознесшая над Полоцком свои купола всего за один строительный сезон, считается одним из ярчайших памятников древнерусской архитектуры. На склоне лет Евфросинья неожиданно решает совершить паломничество в Иерусалим. Ей удается задуманное, но, достигнув цели, пожилая игуменья заболевает и умирает в 1173 году. Белорусская паломница была похоронена в Иерусалимском храме святого Феодосия. Четырнадцать лет спустя останки Евфросиньи перевезены в Киево-Печерскую лавру, а в 1910 году в Полоцкий Спасский монастырь. Советской власти претили рассказы о чудесах происходивших рядом с серебряной 40-килограммовой ракой, в которой хранились мощи Евфросиньи. Чтобы развеять миф о её святости в 1922 году гроб вскрыли, и эксперты вынуждены были констатировать: тело Евфросиньи Полоцкой самомумифицировалось, то есть стало нетленным. Воинствующие атеисты свозили "диковинку" на выставку в Москву, а затем отдали в Витебский краеведческий музей. Годом раньше Спасский монастырь был закрыт. Немецкие оккупационные власти отнеслись к мощам святой более уважительно, чем наши соотечественники — комиссары. Останки вернули в Полоцк, причем в день приезда поезда в городе был отменен комендантский час. Огромный авторитет Евфросиньи Полоцкой, её подвижническая жизнь породили массу слухов и легенд. Одна из них рассказывает про дочку полоцкого князя Василия (возможно Всеслава), которая под именем Пракседа была объявлена в Риме святой. Данная легенда считается католическим вариантом жизнеописания Евфросиньи. Все с чем соприкасалась при жизни эта великая женщина окутано ореолом благоговения и религиозной мистики.
ОТ ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА ДО ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА
"…Мастер Богша отложил инструменты в сторону и бережно перенес своё изделие на специально подготовленную мягкую холстину. От долгих часов напряженной работы болели глаза, нещадно ломило спину, согнутую годами и бесконечным сидением над верстаком. Однако стоило ювелиру-эмальеру взглянуть на уже законченный напрестольный крест, как сердце билось сильнее, а изрытое морщинами лицо начинало светиться гордостью. Теплая желтизна золота, мягкий блеск серебра смешивались с переливами жемчуга и драгоценных камней. Сработанный из кипариса шестиконечный крест был небольшим — чуть больше полуметра длинной, но тем кропотливее и ценнее была работа еврейского мастера Лазаря Богши (судя по отрывочным сведениям об этой личности, он уже взрослым прошел обряд крещения — прим. ред.). Полоцкий мастер превзошел самого себя. С цветных эмалевых перегородок строго и одновременно ласково смотрели лики Христа, Пресвятой Богородицы, Иоанна Предтечи, четверых евангелистов, архангелов Михаила и Гавриила, апостолов Петра и Павла. На оборотной стороне креста Богша разместил изображения ближайших родственников заказчицы — игуменьи Евфросиньи. Темные от въевшейся кислоты кончики пальцев ювелира коснулись выбитых на золотых пластинах витиеватых букв.
…Да не изнесется никогда крест из стен монастыря, — гласил текст заклятия, придуманный Евфросиньей. — Да не будет крест ни отдан, ни продан. А тому, кто ослушается, не будет честный крест помощником ни в этой жизни, ни в будущей, и будет он проклят животворящей троицей, и святыми отцами, и семью соборами святых отцов, и ждет его участь Иуды, предавшего Христа…". О ценности реликвии, созданной Богшей, свидетельствует тот факт, что за свою работу мастер получил 40 гривен — сумму, эквивалентную плате за мощение 4 километров деревянной мостовой или стоимости 160 лисьих шкур. Рыночную же цену напрестольного креста Евфросиньи представить невозможно в принципе, поскольку реликвия выполняла функцию ковчега для хранения капель крови Христа, кусочков его креста и осколков камня гроба Богородицы. Заклятие хоть и действовало на современников Евфросиньи, но страх перед ним не был всеобъемлющим. После смерти просветительницы, на границе XII-XIII веков крест был вывезен из Полоцка смоленскими князьями. После захвата Смоленска князем Василием III в 1514 году реликвия оказалась в Москве. О том, что заклятие, размещенное на кресте Богши, все-таки оказывало на людей свое действие, свидетельствует весьма красноречивый факт. Во время осады Полоцка в 1563 году у Спасо-Евфросиньевского монастыря останавливался Иван Грозный. Узнав о том, что в стенах обители когда-то хранилась реликвия из его теперешней сокровищницы, царь приказал возвратить крест на место. Мотив поступка, самого жестокого из русских самодержцев, остался тайной. Возможно, Иван Васильевич пытался таким образом смягчить гнев Всевышнего за свои зверства в Полоцке. Не исключено также, что возврат святыни не был связан конкретно с Полоцком и диктовался просто богобоязненностью московского владыки. Пребывание креста на своем историческом месте было коротким. В 1579 году Полоцк взят войсками Короля Речи Посполитой и великого князя Стефана Батория. Церковь Спаса переходит к ордену иезуитов. Белорусская реликвия перевозится в Софийский собор, который с конца XVI столетия до 1839 года считается униатским храмом. Хотя церковная уния подразумевала верховенство римского Папы над объединением православных и католиков, последние страстно желают получить крест Евфросиньи в единоличное владение, поскольку знают влияние святыни на верующих и намерены лишить православие одной из главных его реликвий. Была сделана копия креста, которую пустил в ход агент иезуитов. Подмена была осуществлена во время праздника Воздвижения, когда святыню вынесли на середину храма. Однако злоумышленники недооценили бдительности хранителей святыни. Подлог оперативно выявили, а вора задержали, но на этом злоключения креста Ефросиньи не закончились. В 1812 году Полоцк на несколько месяцев был захвачен французскими войсками и верующие замуровали реликвию в стену Софийского собора. После расторжения унии и восстановления Спасо-Евфросиньевского монастыря в 1841 году крест торжественно переносят в келью полоцкой подвижницы. Казалось бы, справедливость восторжествовала окончательно, и один из главных символов православия занял место, предопределенное ему историей. Жизнь распорядилась иначе. Грянула революция, кровавая тень которой накрыла крест Евфросиньи. Святыне удалось смирить алчность Ивана Грозного, избежать религиозных амбиций католиков и не попасть в руки наполеоновских завоевателей. То, что оказалось не по силам великим сотрясателям мира прошлого, успешно и походя осуществили "мессии" ХХ столетия — безжалостная ко всем устоям мироздания орда марксистов- ленинцев.
ПОЛОЦКО-МИНСКИЙ ТРАНЗИТ
"…В огромной, облицованной красным деревом приемной раздалось гудение зуммера, заставившее четверых мужчин вздрогнуть. Строгая секретарша опустила телефонную трубку на аппарат и кивнула посетителям.
— Проходите, вас ждут.
Кабинет председателя Белорусского республиканского общества охраны памятников истории и культуры. Климова тонул в полумраке: солнечный свет едва пробивался сквозь задернутые плотные портьеры. Высокий чиновник даже не поздоровался с парой научных сотрудников института литературы и истории АН БССР и двумя работниками Могилевского краеведческого музея.
— Что вам нужно?
Задавая вопрос, Климов в упор смотрел на директора областного музея Ивана Константиновича Скворцова. Тот откашлялся.
— Мне лично — ничего. Пропали ценнейшие реликвии, принадлежащие нашей республике. Непонятно почему этим никто не интересуется?
— Какими документами располагаете? — нахмурился Климов. На стол председателя лег ответ на запрос с печатью Эрмитажа. В нем сообщалось, что крест Евфросиньи Полоцкой находится в США, в частной коллекции Моргана. Уяснив подоплеку загадочных событий, разыгравшихся в 1941 году накануне оккупации Могилева, функционер соизволил уделить внимание седовласому, однорукому мужчине, который верноподданно застыл у двери.
— Вы предвоенный директор Могилевского музея Иван Сергеевич Мигулин?
Последовал осторожный кивок головой.
— Точно так!
— Рассказывай старик, как дело было…"
Прежде чем оказаться в Могилеве крест Евфросиньи Полоцкой побывал во многих передрягах. После закрытия Спасо-Евфросиньевского монастыря, реликвия в числе других ценных культовых принадлежностей была реквизирована большевистскими "культурологами". С 1921 по 1928 годы крест теряется в дебрях зарождающейся коммунистической бюрократии. Варварское отношение к национальной святыне и драгоценности, занесенной во все мировые каталоги, просто шокирует. Для "поисков" креста директору Белгосмузея Вацлаву Ластовскому приходится отправлять в Полоцк специальную экспедицию! Реликвию с трудом отыскивают в здании местного финотдела. Каким боком мог служить крест Ефросиньи полоцким фининспекторам остаётся загадкой. Возможно, народное достояние использовалось в качестве пресс-папье… Угроза приближающейся войны, и планы по перенесению белорусской столицы из Минска в Могилёв предопределяют дальнейшую судьбу креста. Он перевозится из республиканского музея в областной и хранится в специальном помещении, за бронированной и решетчатой дверями.
В 1941 здание краеведческого музея (бывшего земельного банка) переходит в ведение обкома партии. Музей передислоцируется в новое помещение, но хранилище экспонатов остаётся на прежнем месте. В дальнейшем история креста походит на остросюжетный детектив, берущий начало в третьей декаде июня 1941 г. Тогда окрестности Могилёва оглашались рёвом двигателей немецких танков, а в самом городе царила эвакуационная неразбериха.
ИСПОВЕДЬ ОДНОРУКОГО ОПОЛЧЕНЦА
"…За экспонаты сейфа хранилища я не беспокоился! Как никак они находились в обкоме партии, сотрудники которого знали о ценности реликвий. Своего транспорта музей не имел, и я отправился к военному коменданту. По пути увидел на улице два трупа с табличками на груди "Дезертир" и "Паникер"… На мою просьбу выделить музею транспорт для эвакуации, комендант грохнул кулаком по столу.
— Паникер!
Меня, как арестованного вывели из кабинета. Повезло, что в коридоре встретил офицера, знавшего меня как лектора, выступавшего в воинских частях Могилёвского гарнизона. Он выругал меня и выпустил на улицу…"
(Из воспоминаний И.С.Мигулина, последнего человека, который отвечал за сохранность креста Евфросиньи Полоцкой).
Рассказ Ивана Сергеевича вызывает определённые сомнения в его искренности. После своего чудесного спасения Мигулин отправляется в обком партии, во дворе которого формируются отряды народного ополчения. Директор музея почему-то решает плюнуть на свои экспонаты и зачисляется в ополченцы. Дефицит людей настолько острый, что однорукого инвалида принимают в отряд слежения, выявляющий немецких диверсантов-парашютистов. В Могилёве Мигулин оказывается только на девятый день: ему поручено доставить в облвоенкомат реквизированных для нужд фронта лошадей. В здание обкома партии директора музея не пропускают часовые, которые сообщают, что обком эвакуирован. Дома Мигулина встречает жена-еврейка, которая упрекает супруга в невнимании и настаивает на скорейшей эвакуации. По пути в Горький, Иван Сергеевич содействует поимке 15 нацистских диверсантов, а в дальнейшем работает секретарём парторганизации военного завода, парторгом Горьковского обкома партии, лектором Могилёвского обкома партии. О судьбе реликвий Мигулин узнаёт от бывшего члена музейного совета, работавшего в годы оккупации в немецкой городской управе, учителя Луковникова. Тот рассказывает, что по началу оккупанты не обратили на сейф-хранилище внимания. Лишь после того, как один любопытный солдат заметил через окно подозрительный блеск, бронированную дверь вскрыли. Луковникова, как знатока православных реликвий оккупанты-лютеране пригласили для составления списка раритетов.
"…При виде всего, что было в сейфе, немецкий комендант произнёс:
— Всё это принадлежит Германии!
Вещи погрузили в тару, и куда-то увезли…"
(Из воспоминаний И.С.Мигулина).
Известный могилёвский публицист редактор газеты "Вестник Могилёва" Виктор Юшкевич в 90-х годах предпринял попытку расследования обстоятельств исчезновения креста Евфросиньи Полоцкой и в своей статье "Тайна креста" скрупулезно проанализировал рассказы живых участников той давней истории.
"…Лет 5 назад, — пишет В.А.Юшкевич, — я видел, как снимали пресловутую бронированную дверь, поскольку она явно не годилась для кабинета директора издательства обкома партии. Подумал, вряд ли бы немцы восстанавливали и вешали на них такую махину. Да и петли были целёхонькими, никаких оплавлений от газосварки. Сегодня эту дверь уже не найдёшь, но вторая, решетчатая находится в здании. Целёхонькая…". После выхода в свет журналистского расследования, И.С.Мигулин публикует в "Вестнике Могилёва" свою статью, более походившую на оправдание: "…Вторая дверь была целой. Это единственная, правда, в статье "Тайна креста". Эта дверь при выходе из сейфа не запиралась, она закрывалась изнутри, когда в сейф входило доверенное лицо…". Складывается впечатление, что И.С.Мигулин, серьезно проанализировал публикацию В.А.Юшкевича и с её учётом "подкорректировал" свои воспоминания. Стоило журналисту упомянуть об отсутствии следов газосварки на дверных петлях, и о том, что самой двери уже не найти, как бывший директор парирует:
— Газосваркой срезали не петли, а расширяли замочное отверстие!
Кроме прочего В.А.Юшкевич упоминает о загадочном появлении в дни обороны Могилёва людей в форме офицеров НКВД, которые побывали в здании обкома и в хранилище. Потуги И.С.Мигулина, свести эту версию на нет, наивны до смеха: "…Спрашивается, как они могли вложить в мешки иконы, размером более метра, и почему сотрудников спецслужб не заметили работники обкома?".
Во-первых, всё зависело от самих мешков, а во-вторых, замечать "гебешников" или вступать с ними в пререкания в городе, находившемся на военном положении, мог бы только круглый идиот. Похоже, что бывшего директора музея испугало упоминание В.А.Юшкевича о ключе от сейфа, который имелся у таинственных офицеров НКВД. По словам же И.С.Мигулина, он выбросил пресловутый ключ за ненадобностью, когда узнал, об оккупации Могилёва. Газетная исповедь бывшего директора пестрит упоминаниями о кресте, как "…шедевре византийского искусства…", и ссылками на собственные заслуги перед партией и правительством: "Родился в 1902 г., в 1918 добровольцем ушел на фронт гражданской войны. В партии с 1925 г. С 1927 г. работал заведующим Домом работников просвещения. В 1929 г. работал единственным сотрудником партархива ЦК КПБ. В 1933 г. Окончил комВУЗ…". Безупречный путь настоящего большевика-ленинца! Которого к тому же оправдал "…заместитель Президиума Верховного Совета БССР т. Климов…" и после допросов реабилитировал "…сотрудник областного КГБ т. Молчанов…". Короче, всю защиту, старательно выстроенную Мигулиным можно свести к простой формуле: — Высокие товарищи — начальники мне сочувствуют, так чего ж ты, журналюга, обижаешь персонального пенсионера союзного значения?
ИНЫХ УЖ НЕТ, А ТЕ УЖЕ ДАЛЕЧЕ…
"Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе трёх человек… составили настоящий акт, об ущербе, причиненном немецко-фашисткими захватчиками и их сообщниками, Могилёвскому областному государственному краеведческому музею… Сожжено и разграблено немецкими оккупантами в 1941 г…". В "перечень отдельных видов разрушенного, уничтоженного, расхищенного и поврежденного имущества" входит и крест Евфросиньи Полоцкой, оцененный учителем педучилища, инженером промбанка и могилёвским художником в 6000000 рублей. Этой бумаженцией и ограничился вклад "т. Климова" в розыски реликвии. Жаль, что не удалось точно квалифицировать отдельные нюансы "исчезновения" креста. Уничтожен или похищен? Немецкими оккупантами, или всё-таки их пособниками?
— Беседы с Мигулиным произвели на меня двоякое впечатление, — вспоминает В.А.Юшкевич. — Этот человек явно чего-то или кого-то боялся. Я лично сомневаюсь в том, что директор музея вообще держал крест в руках. Что касается автора этих строк, то я склонен, согласится с умозаключениями Виктора Антоновича. И не только из журналисткой солидарности. Просто валить всё на немецких оккупантов (которые, кстати, возвратили серебряную раку с мощами св. Евфросиньи в Полоцк), гораздо проще, чем разбираться в причастности к пропаже православной святыни "родных" офицеров НКВД. Сегодня доподлинно известно, что все моральные кодексы строителей коммунизма, не мешали партийным бонзам, разномастным "агентам 007" напропалую воровать и мародерствовать. Стараниями брестского художника — эмальера, крест Евфросиньи Полоцкой, воссоздан и благословлен Святейшим Экзархом Беларуси, митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. О чудодейственной мощи креста говорят свидетели исцелений происходящих у воссозданной реликвии. Какой же святостью должен обладать подлинник, если даже его копия способна творить чудеса? Хочется верить, что сила небесной покровительницы Беларуси вернёт святыню потомкам, а проклятие Евфросиньи Полоцкой настигнет истинных виновников исчезновения креста.