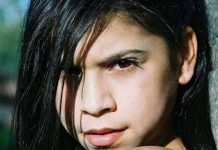Похороны Сталина — рассказ очевидца
Михаил РИНСКИЙ
Палачами стали друг для друга,
Позабыв о главных палачах…
Евгений Евтушенко
Для нашей семьи год 1953-й был (впрочем, как и предыдущий, и последующий) нелёгким, но хотя бы в одном отношении переломным. Смерть "вождя" и последующая "оттепель" позволили моему отцу перестать скитаться по родственникам на периферии, где ему пришлось искать пристанище в предшествующие года три, опасаясь нового ареста за "космополитизм".
К началу 1953 года отец уже был тяжело болен — у него после работы по практически ручному обогащению урана на Урале на трудфронте во время войны развилась лучевая болезнь. Хотя опасность нового (как и в прошлый раз, без всякой причины) ареста оставалась, болезнь обострилась настолько, что отец был вынужден — "будь что будет!" — вернуться в Москву. Я, тогда студент третьего курса Московского института инженеров транспорта, записавшись на приём к министру путей сообщения, в очередной раз получил разрешение на госпитализацию отца в Яузскую железнодорожную больницу, к профессору-гематологу Иосифу Абрамовичу Кассирскому — он отца периодически "подлечивал": в те годы от лучевой болезни радикальных средств не было. Как, впрочем, вроде бы и сейчас — при серьёзной дозе радиации.
Надо отдать должное профессору: уже зная историю болезни отца, он всегда визировал моё заявление, давая согласие на его госпитализацию, и министр не отказывал "отцу студента МПС".

В начале 1953-го шла "охота" уже не только на "космополитов", как замаскированно называли евреев, но ещё и фигурантов явно антисемитского "дела врачей", фактически выходившая далеко за рамки преследования медработников "определенной национальности". И мы были готовы ко всему. Как и сам профессор Кассирский, входивший в число медиков, консультирующих советскую элиту. Об этом сам профессор позднее расскажет отцу. Впрочем, многие тогда жили в подобной "готовности"…
Тем не менее смерть "вождя народов" 5 марта повергла в растерянность и ужас всю страну, и нас в том числе. Все по "совковой" (а, может быть, и не только "совковой") стадной ментальности были в шоке, многие — чего уж греха таить! — и в горе. К исключениям относился мой отец, в любых ситуациях невозмутимый и не теряющий самообладания, что не раз спасало его, в том числе и в войну. При задававшемся многими вопросе — "Что же теперь будет?" — отец мог смело сказать: для него худшее уже произошло. При неизлечимой болезни отца всё, что мог сделать даже знаменитый профессор, — насколько возможно, продлить ему жизнь.
Мне, двадцатилетнему студенту института, носившего в то время имя Сталина, как и многим в Советском Союзе, было что и за что спросить с властей. Только мы такими умными стали позже, а тогда — кто и что понимал, даже многое пережившие? А я — что… Ну закрыли перед нами, потенциальными "космополитами", двери медицинских институтов, куда хотел поступить вслед за сёстрами — так пошёл в технический, всё равно прошёл. Угробили здоровье отцу, да ещё и хворого вынудили на добровольную ссылку — так со многими было хуже: лагеря, туберкулёз, смерть за колючей проволокой. Ну, "попёрли" меня из комсоргов — опять же сам виноват: отказался собирать ребят и исключать из комсомола Эльду Гловацкую за узкие брюки. Спасибо, самого не исключили, а то ведь автоматически и из института могли. А могли и просто за анекдот. Так что — "спасибо партии, спасибо вождю"…
Был у нас в семье и свой "враг народа" — дядя Наум, работавший в органах, а потом "пропавший без вести" в магаданских лагерях. В нашей родне все были уверены, что никакой он не "враг", просто тогда на слуху у каждого было: "Лес рубят — щепки летят".
Но, с другой стороны, отец, несмотря на то, что в погромах от рук бандитов-черносотенцев погибли оба моих деда, рассказывая о черте оседлости, говорил: только при советской власти его дети смогли, что бы там ни было, получить высшее образование. Возможно, подчёркивая положительное, отец старался уберечь нас с сестрой от лишнего неосторожного слова, которого в ту пору порой было достаточно для далеко ведущих выводов. Но, скорее всего, он, взвешивая все "за" и "против", и думал так.
Словом, когда уже 5 марта поползла молва, а 6-го официально объявили о Его кончине, все мы, студенты, как и вся страна, были в искренней скорби. Каждый вспоминал только то, чего страна добилась при Нем, прежде всего — о победе в войне, и всё это по привычке ассоциировали с Его именем. Впрочем, разве не скажет позже Его злейший недруг Уинстон Черчилль: "Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомным оружием"?!
И изо дня в день все мы слышали подобное:
С песнями борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идёт!
И вот теперь — за кем? Вся страна устремила взоры и помыслы к Москве, а мы, москвичи, бросились к Нему, ища ответа.
Уже 6 марта к вечеру открылся доступ в Колонный зал Дома Союзов, пока ещё ограниченный. 7 марта с утра объявили, что Комиссия по организации похорон во главе с Н.С.Хрущёвым назначила их на утро 9 марта.
7 марта утром, не представляя себе, как будет организовано прощание с усопшим, мы, группа из нескольких студентов, почему-то "вычислили" Трубную площадь. А, может быть, и кто-то подсказал — не помню. Сколько можно было — проехали трамваем, потом — пешком: в пределах Садового кольца дороги перекрыли любому транспорту. Именно где-то на Трубной, как потом узнали, просачивавшиеся родники сливались в поток многочасовой очереди, и именно на Трубной, как потом шептали, топтали и давили насмерть людей.
Я, признаться, этого не видел. Наша компашка в толпу не вклинилась, а вдоль Бульварного кольца двинулась по внешнему тротуару в сторону Пушкинской площади. По дороге опрашивая себе подобных, пришли к логическому выводу, что, скорее всего, очередь должна неминуемо пройти по Пушкинской (ныне — Большая Дмитровка) или Петровке. Значит, где-то между ними надо искать лазейку. Только — легко сказать…
По всей длине Бульварного кольца все улицы и дворы со стороны центра были наглухо перекрыты тяжёлыми грузовиками, где армейскими, где и самосвалами с песком и щебнем. Перед машинами и за ними — густые цепи милиции и солдат. Мороз был довольно крепкий, но мы как-то сгоряча его не очень замечали. На мне было старенькое рыхлое пальтишко и шапка-папаха. Грубые ботинки с каким-то верхом из войлока, на толстых резиновых подошвах, с меховыми прокладками были тёплые, что спасало пальцы ног от обморожения. Правда, перемахивать через заборы в них было нелегко. Но вот вязаные перчатки были не из самых тёплых.
У въездов на Петровку и Пушкинскую шла буквально осада машин, непрерывная, не шумная, но жёсткая. Солдаты, стоя в кузовах машин, сбрасывали тех, кому удавалось прорваться сквозь "передний край обороны" на машины. Мы рассудили, что нет смысла прорываться на эти улицы: позади машин было слишком много сил "третьего эшелона". Нам впервые повезло, когда шумная многочисленная ватага попыталась прорваться в ворота одного из особняков. Солдаты бросились на помощь своим, и мы, приставив заранее припасённый ящик к забору, успели перескочить вчетвером, остальным не удалось. Мы тут же юркнули куда-то вглубь двора, преодолели ещё какой-то заборчик и оказались, насколько помню, в Петровском проезде. В те послевоенные годы "задами" пробираться было куда легче, чем сейчас, но всё равно трудно.
Где подсаживая друг друга, где — подавая руки, мы каким-то образом постепенно добрались почти до театра Станиславского (театр "Ромэн" в этом здании поселится позднее, а потом его вообще снесут). Примерно напротив было здание музыкального театра. Здесь перебегать Пушкинскую не имело смысла: дальнейший путь преградил бы комплекс Госпрокуратуры. Ещё несколько препятствий, в ходе преодоления которых мы "потеряли" ещё двоих, — и вдвоём со Стасом мы всё-таки в Столешниковом. Ещё рывок через Пушкинскую, — и мы в той части переулка, откуда рукой подать до Театрального проезда (ныне вновь называемого Камергерским переулком). Прорываясь через Пушкинскую, видели толстую "змею" очереди, двигавшейся по правой её стороне ниже, но туда прорваться прямо с улицы было немыслимо.
Тут мы и со Стасом как-то разминулись: он, вслед за кем-то, двинулся в сторону улицы Горького (ныне — Тверской), не слушая моего предупреждения, что там можно упереться в тылы МХАТа. Я предпочёл вслед за двумя ребятами подняться по пожарной лестнице на крышу какого-то невысокого дома и затем спуститься с другой его стороны. Холодные прутья лестницы обжигали руки даже через перчатки. Ещё манёвр — и я во дворе позади углового дома, где много лет (а, может, и поныне) размещался большой магазин канцелярских товаров. И вот здесь я попал в руки двух дюжих милиционеров.
Предвидя такую возможность, заранее обдумал, что сказать. В конце Театрального проезда, где он продолжается улицей "Кузнецкий мост", дом на углу Петровки известен мозаикой самого Врубеля на фасаде. В этом здании жила уважаемая семья, с которой мама дружила с эвакуации. Две престарелые женщины, в революцию ещё молоденькими приехавшие на помощь большевикам из США, были персональными пенсионерками, у них всегда были дефицитные лекарства, за которыми мама меня якобы и послала к ним для больного отца. Я назвал адрес: Кузнецкий мост, 3, номер квартиры, телефон — всё это было у меня в записной книжке.
Милиционеры, естественно, не очень поверили, но всё же, очевидно, решили, что у меня хоть какое-то алиби есть. А так как всё новые осаждавшие вылезали из подворотен, окон и дверей, они отпустили меня, предупредив, что всё равно к дому друзей мне через Пушкинскую никак не "перескочить".
И вот я на углу Театрального проезда и Пушкинской улицы, на этом её участке медленно движется очередь в сторону Дома Союзов. Но она отсечена от Театрального проезда стоящими вплотную друг к другу армейскими грузовиками — всё так же, как на Цветном бульваре, только здесь и солдат гораздо больше по обе стороны машин и на машинах, и осада идёт непрерывно, причем куда более ожесточённо. Разгорячённые, буквально озверевшие, солдаты безжалостно ведут рукопашный бой, отбрасывая от машин осаждающих и сбрасывая тех, кому удалось подняться на подножку кабины или на колесо.
Я тоже попытался вскочить на подножку, но был сброшен на гранитную промороженную и обледенелую брусчатку мостовой. Больно ударился и, по счастью, догадался заползти под машину, иначе рисковал быть затоптанным сражающимися. Дело было не только в опасности для жизни и здоровья, а, что не менее важно, в полной потере человеческого облика всех "действующих лиц", готовых зверски растоптать человека на похоронах. Тогда я и представить себе не мог, что, может быть, именно в это время где-то неподалеку и происходит нечто подобное.
Под машиной все "вакансии" были заняты, так что мне пришлось буквально втиснуться между замерзающими на льду и брусчатке, отполированных их телами. Не менее получаса я, вконец окоченевший, пролежал под машиной, не имея возможности ни продвинуться вперёд, к очереди, ни вылезти назад, чтобы не растоптали. Наконец, впереди лежащему то ли удалось выскочить в очередь, то ли его выволокли из-под машины солдаты. Во всяком случае, я тут же поспешил "заполнить вакуум" и оказался на "передовой позиции", видя перед собой тяжёлые кирзовые сапоги плотной шеренги солдат и за ними — ноги счастливчиков в очереди. Иногда солдаты нагибались, пытаясь схватить и вытащить из-под машины высовывающихся, а то и просто ударить сапогом — поэтому мы под машиной были настороже и не приближались к краю.
В своём хилом пальтишке и перчатках я бы, возможно, вообще замерз под грузовииком, но мне повезло: кому-то в очереди стало плохо, солдатские сапоги перед нами углубились на минуту в толпу, — я и ещё кто-то успели выскочить из-под машины и "затесаться" в идущую колонну. Люди в очереди помогали нам, тут же протолкнув нас вперёд, подальше от места "прорыва". Да и сами солдатики в цепи не стали нас ловить. Тут же кто-то дал мне кусок хлеба — чая ни у кого в термосах не осталось, да и далеко не все принесли с собой. Очевидно, меня уже начало лихорадить и вид был соответствующий — кто-то растёр мне закоченевшие пальцы рук в рыхлых перчатках.
Остававшееся расстояние в несколько сот метров до Колонного зала мы в очереди "преодолевали", наверное, не меньше часа, а скорей всего — дольше. Я после всех "подвигов" и переохлаждения на ледяной брусчатке под машиной, да ещё и не евший с утра — не считая куска хлеба в очереди, — был в каком-то полусонном состоянии, плохо воспринимая разговоры окружающих. Помню только, что говорили о достоинствах усопшего. Я, ещё неотёсанный студент-"технарь", в этой скорбной очереди узнал от кого-то о том, что здание Колонного зала проектировал великий архитектор Казаков. Вряд ли, подумалось, зодчий в то время даже в кошмарном сне мог представить, что его творение будет служить, помимо основного назначения, для "отпевания" сильных мира сего.
И ещё в очереди я узнал о смерти выдающегося композитора Сергея Прокофьева того же 5 марта, но для этого сообщения нашлось место только на последних страницах некоторых изданий: все газеты практически целиком были отданы траурным статьям, стихам, интервью только на одну тему.
И вот мы, наконец, у входа в Колонный зал. Кто-то подталкивает меня, и, догадавшись, в чем дело, я снимаю свою папаху. Траурная музыка сразу настраивает на скорбь. В этом зале я бывал десятки раз, начиная с детских лет, по разным праздничным поводам и на концертах классической музыки. Сейчас его трудно было узнать: величественные колонны и уникальная люстра задрапированы красным и чёрным. Но всё это воспринималось как фон. Глаза невольно искали и затем уже неотрывно смотрели на человека в гробу, вознесённом так, что видели только профиль куда более полного лица, чем привыкли видеть на портретах. Маршальская форма, подушечки с орденами, и цветы, цветы — это всё, что запомнилось. Помню — у гроба стоял почётный караул, вокруг — охрана. Но совершенно не помню, кто был в это время в почётном карауле. Непосредственно у гроба стояли две женщины, кто — не знаю: в те годы нам по многочисленным портретам был знаком облик вождей, но не их близких родственников. Да и вглядывались все только в одно лицо.
В зале никто очередь не подгонял, но она здесь не была плотной. Прошли мы сравнительно быстро, хотя и соблюдали подобающий темп. В очереди были слышны сдержанные всхлипы и стоны, но рыданий не доносилось, а, может быть, состояние было такое, что их не воспринимал.
Но вот и выход. Людской поток направляется верёвочным ограждением и более редкими шеренгами солдат. И вдруг я обнаружил, что наш поток параллелен на каком-то небольшом участке очереди входящих, отделённый верёвками и солдатами, в основном стоящими лицом к входящим. Несмотря на то, что меня уже к этому времени трясла, всё усиливаясь, дрожь, а эйфория от успеха "операции" прошла ещё в очереди, — как в двадцать лет не воспользоваться возможностью ещё раз самоутвердиться! Ещё после первого "прорыва" понял, что солдатам в цепи приказано лично не преследовать нарушителей — для этого был "второй эшелон", а его в этом месте не было, — я поднырнул под верёвку, не коснувшись солдат в шеренге, и оказался в очереди почти у входа. И хотя в этот раз я не был принят так же доброжелательно и заботливо — скорей наоборот, — но мысли людей уже были устремлены к предстоящему, и меня не "сдали", хотя это было бы справедливо.
Таким образом я дважды имел "счастье" проститься с "вождём", на зависть моим друзьям и однокурсникам, и не пытавшимся (а, может быть, и не стремившимся, но таких тогда было мало) отдать последние почести всеобщему в то время кумиру. Во второй раз я попытался более внимательно обозреть зал, запомнить какие-то детали, но память мало что сохранила. Да и прошло уже более шестидесяти лет…. Запомнилось только, что на смену караулу штатских встали военные, сплошь с широкими маршальскими погонами — вот и всё.
По обозначенному милицией коридору для "отдавших долг" дошёл до метро "Площадь революции" и, пытаясь согреться, бегом сбежал по эскалатору на станцию. Пока добирался до своего дома на метро, электричке и автобусе, чувствовал, что тело ломит всё больше. Две недели после этих приключений провёл я в постели с температурой за 39 градусов с диагнозом "воспаление лёгких". Выкарабкался благодаря молодости и антибиотикам, полученным от тех самых старушек-американок из дома с мозаикой Врубеля на Кузнецком мосту.
До похорон и ещё несколько дней после газеты со страницами целиком в траурных рамках были полны прощальных статей и стихов. В то время они, декларативные и большей частью неглубокие, воспринимались нами всей душой и сердцем. Мне, например, запомнилось написанное Львом Ошаниным:
Когда мы возле гроба проходили,
В последний раз прощаясь молча с ним,
Мы вспоминали о великой силе
Того, кто тих сейчас и недвижим…
Далее — так же высокопарно, поверхностно, привычными клише. Даже у признанных мастеров слова — в таком же духе, потому что за долгие годы культа выработались стереотипы, которые нарушать было небезопасно. Да и жизнь Его была за семью замками даже для культурной элиты, особо рассказать ей было нечего.
Выходя из Колонного зала, да и ещё длительное время после этого тяжёлого во всех отношениях дня, я, конечно, ничего не знал о жертвах в давке людей, о чём так сочно напишет Евгений Евтушенко:
На этой Трубной, пенящейся, страшной,
Где стиснули людей грузовики,
За жизнь дрались, как будто в рукопашной,
И под ногами гибли старики…
Сейчас, более чем через шестьдесят лет после похорон "вождя", я, вспоминая это событие, думаю: с одной стороны, знай заранее, какие страшные перипетии и жертвы предстоят москвичам и мне в том числе, едва ли бы, как и многие, принял участие в этом памятном событии. А с другой стороны — не надо стыдиться своих поступков, соответствующих конкретному состоянию истории и общества. Тем более, что стал свидетелем одного из кульминационных моментов, знаковых событий, о котором трудно сказать лучше поэта:
Напраслиной вождя не обессудим,
Но суд произошёл в день похорон,
Когда шли люди к Сталину по людям,
А их учил идти по людям он…
"Новости недели"