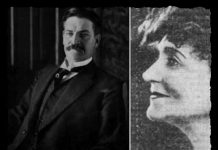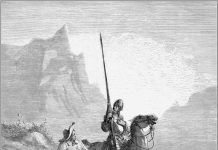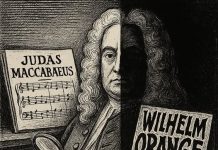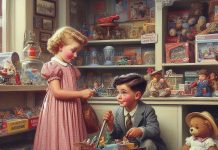Меня часто спрашивают: почему я всю жизнь не расстаюсь с Бабелем? Действительно, почему?
Татьяна ЛИВШИЦ-АЗАЗ
Окончание. Начало в публицации «Отцы и дочери»
МОЯ ВСТРЕЧА С НАТАЛИ БАБЕЛЬ
Моя жизнь двигалась по своей орбите, то приближаясь, то удаляясь от бабелевской звезды, но загадки его судьбы и творчества продолжали притягивать меня с неослабевающей силой. В конце зимы 2015 года я наконец полностью прочитала сборник тех самых писем к родным «Одинокие годы…» по-английски13. Это было второе американское издание, 1994 года (первое вышло в 1964 году). Редактор и составитель обоих изданий – Натали Бабель-Браун, «маленькая француженка».
А приобрела я его так. В Нью-Йорке у меня родился долгожданный внук, и я поехала как бы на первую годовщину, но в общем – понянчить малыша. Мне очень этого хотелось, к тому же и его родители – моя дочь с зятем, жившие в Америке всего несколько лет – много работали и нуждались в моей помощи. Я возилась с малышом самозабвенно, и полтора месяца пролетели словно один день. Накануне отъезда я проснулась ночью и ужаснулась: ничего из намеченных мной планов «культурных рейдов» не произошло, а самое главное – я не добралась до хорошего магазина букинистики! У меня был длинный список книг, но на первом месте в нем стоял сборник «Одинокие годы…».
На следующее утро дочь снабдила меня адресами самых больших книжных магазинов Манхеттена, причем первым в списке значился магазин возле мемориала «11 сентября». Я вошла в небольшое лобби на первом этаже с несколькими клерками за компьютерами. Один из них заикался, и почему-то я решила, что именно он отнесется к моему списку сочувственно и с пониманием (я искала также, не зная точного названия, дневники Альмы Малер и Лу Саломе Андреас – двух выдающихся женщин ХХ столетия). Доступным оказалось лишь последнее издание писем Бабеля. Сначала я очень сожалела, но оказалось, что это к счастью – я отдалась единственной находке всей душой. Парень выдал мне распечатку с указанием этажа и стеллажа. Магазин оказался огромным. Этажи уходили вниз под землю, мне нужен был второй.
И вот я спускаюсь по узкой лестнице – словно в чистилище – и попадаю в большущий зал, весь в книжных стеллажах. Все эти книги принесены людьми из своих домов! Мой сборник я нашла очень быстро, зато очередь в кассу была длинной и, казалось, не двигалась. Я вертела в руках свою находку, рассматривая обложку. На ней был фрагмент картины: спиной к зрителю во весь рост стоял долговязый поджарый мужчина, подстриженный бобриком, в домашних коричневых галифе, длинных носках и темно-серой жилетке. Он напряженно вглядывался в темноту за окном. Мне показалось, что автор должен быть художником американской школы гиперреализма начала минувшего века, и тут же я снисходительно подумала: «Ох уж этот американоцентризм, даже у профессиональных книжных оформителей он проявляется. Неужели не могли найти что-то более подходящее низковатому, предрасположенному к полноте и обычно очень элегантному Бабелю?» Однако оказалось, что это была картина «Тревога» 1919 года Петрова-Водкина. Название меня с ней примирило. В позе, в фигуре мужчины был затаенный страх перед темнотой и неизвестностью, которыми дышало окно. Такими мне представлялись последние годы жизни писателя. Но пока я все еще стояла в очереди и нетерпеливо листала сборник дальше, уже впиваясь глазами в строчки.
Вступление Натали к сборнику, специально расширенное и дополненное для этого издания, оказалось встречей с подлинно близким человеком! Мне были так понятны ее боль и тоска по отцу, пронесенные через всю жизнь! Оказывается, даже встречу с отцом после смерти мы представляли себе похоже. Еще в 1964 году Натали написала:
«Я выросла, мечтая, что в один прекрасный день где-то распахнется дверь и войдет мой отец. Мы немедленно узнаем друг друга, и, не удивившись, не дав перевести ему дыхание, я бы произнесла: “Ну, вот и ты, наконец. Мы так долго о тебе беспокоились. После тебя осталось так много любви и преданности, но так мало фактов. Как хорошо, что ты здесь. Садись и рассказывай обо всем”».
А мне снилось: я вернулась домой из университета, а на кухне, еще старой, с дровяной плитой, которая была, когда отец вернулся из лагеря, сидит папа, разминает сигарету и с кем-то шутит по телефону, будто и не было страшного дня в конце зимы – его смерти. А мама – у плиты, и я вижу, что она сердится. «Папа, – бросаюсь к нему, – где же ты был? Ты знаешь, что с нами творилось? Ведь мы думали, что ты умер!» А он, смущенный: «Доченька, меня снова в лагерь забрали, ничего не мог поделать». – «Но почему ты не писал, не подал весточки, мы же считали тебя мертвым?! Знаешь, как скучали, как тосковали, плакали!» – «Доча, нельзя было, меня бы тогда посадили в карцер, а так давали возможность работать, писать. Ну, не сердитесь, вот же я опять с вами». И мы с мамой, с которой мне обычно так трудно, молча переглядываемся: «Нет, он ничего не понимает. Чтобы заниматься своими исследованиями, он пожертвовал нами!».
У Натали есть, на первый взгляд, наивно-прямолинейный, даже вызывающий вопрос к Бабелю: «Был ли он хорошим мужем, отцом, любовником?»
В нормальных условиях дочерям не полагается так говорить с отцами. Но условия, в которых она росла, трудно назвать нормальными, и ее реакция на них мне кажется такой естественной. Этот вопрос задан взрослым человеком, который вырос с чувством недополученной родительской любви: вместо отца – легенда, а мать… мать не смогла освободиться от иллюзорной надежды на возвращение мужа и выстроить собственную независимую жизнь. В вызывающем вопросе дочери слышится стремление преодолеть боль и обиду, взять реванш у отца за горький вкус сиротства ее детства и юности.
Когда мне исполнилось шесть лет, у меня было свидание с отцом, врезавшееся в память. Правда, в отличие от Бабеля, еще через два года мой папа вернулся к нам насовсем, но то воспоминание так и осталось особенным, отделенным от других. И день рождения у меня, как и у Наташи, в июле. Тогда взрослые впервые объяснили мне, что папа не живет с нами потому, что он заключен в лагерь, далеко на Урале. И я уже большая, и поэтому мама меня берет с собой на свидание с ним.
Папу я совсем не помнила, знала его лицо только по фотографиям. Мы встретились всего на несколько часов. Увидев его, я вдруг стала припоминать знакомый запах его табака, улыбку… С моим папой я впервые рассталась в возрасте трех с половиной лет, а Натали – со своим, когда ей было четыре. Может, и с ней происходило это припоминание чего-то очень родного, близкого и вместе с тем далекого…
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Вот как я описала это свидание в своих воспоминаниях:
«Помню длинный, как тоннель, коридор, в конце его свет, и из него навстречу мне быстро идет отец. Он веселый и улыбающийся, совсем как на фотографии, подхватывает меня, и: “Цыбрик (как я соскучилась по этому его слову!), ты совсем большая!” Потом он начинает целовать и обнимать маму, а я думаю про себя: вот, мы как обычная нормальная семья. Мы приходим в комнату с каменным полом и окном – ближе к потолку, чем к полу; под окном железный стол и два железных стула. Через некоторое время мама объясняет мне, что она должна идти, но я смогу остаться, провести весь день с папой, переночевать, а завтра утром она меня заберет. Я чувствую себя не в своей тарелке. Не знаю, о чем с ним говорить. Для меня он какой-то слишком бодрый и веселый. И я совершенно от него отвыкла. И здесь не очень приятно – эта комната, проволока и часовые с собаками, которые видны из окошка… У тети Ани меня ждут с рассказами о лагере ребята. Но сказать об этом неудобно, и скрепя сердце, я остаюсь. Мама уходит. Папа достает из ящика стола бумагу и цветные карандаши, и мы начинаем вместе рисовать. Получается непохоже, и мы смеемся, потом приносят две миски вкусного дымящегося супа, и я потихоньку начинаю оттаивать и отогреваться. Отец расспрашивает меня очень серьезно о бабушке, дедушке, ребятах, с которыми я дружу, и внимательно вслушивается в мои ответы. А мне не верится: неужели это правда, а не сон? И вдруг – пронзительный вой сирены; в окно я вижу, как начинают мотаться часовые с собаками. Появляется испуганная женщина в белом халате: “Лев Яковлевич, тут нагрянула проверка, Танечку надо вывести из лагеря!” Меня срочно собирают с карандашами и рисунками. Появляется другая женщина в белом халате и объясняет мне, что она закончила работу, едет домой на специальном автобусе и возьмет меня с собой, у нее есть двое сыновей, а завтра утром привезет меня обратно, и я встречусь с мамой.
Прощания с отцом я не помню» 10.
Читайте в тему:
ОТЕЦ И ДОЧЬ В ПОИСКАХ ДРУГ ДРУГА
Образ отца и выбранная им судьба красной нитью проходили через всю жизнь Натали. Если Бабель бросил вызов судьбе, то его старшая дочь в очерке-воспоминаниях 1994 года бросает вызов отцу.
Уже в самом названии сборника – «Одинокие годы…» – была заключена полемика с общепринятой концепцией бабелевской жизни и судьбы и широко известными биографическими фактами. Ведь в период с 1925 по 1939 годы Бабель был одним из самых известных и востребованных советских писателей. Его слава и популярность как в литературном мире, так и среди читателей были неоспоримы. Об этом красноречиво свидетельствовали тиражи его книг и писательские гонорары. Он был любим друзьями и женщинами. И трудно назвать его одиноким и во время бурного романа с Тамарой Владимировной Кашириной (апр. 1925 – окт. 1927), и, разумеется, в 1932–1939 годы, когда строился и укреплялся прочный семейный союз с А.Н.Пирожковой.
Мне слышится один невысказанный вопрос, терзавший Наташу всю жизнь: «Почему он это сделал?! Как он мог добровольно от меня, его дочери, плоть от его плоти, отказаться? Почему он бросил меня и мать, так никогда в этом прямо не признавшись?!»
И хочется ей возразить: «Но он на самом деле вас не бросал! Сколько раз он писал и родным, и твоей матери, что когда от них нет писем, его душой овладевает беспокойство и уныние!».
Хотя в тридцатые годы жизнь писателя интенсивна, насыщена творчеством и любовью, в письмах к родным открывается иная ипостась его души. Невозможно не верить в искренность его зова, обращенного к матери, сестре, к жене: «Приезжайте и живите здесь, рядом со мной! Вы мне нужны, мы должны быть вместе!», – повторявшегося на протяжении многих лет.
Да и то, что в 1935 году он задержался с семьей до начала августа – после того, как вся писательская делегация вернулась еще в начале июля, – было ведь тоже хождением по краю пропасти.
Неужели можно было до такой степени не бояться и игнорировать чиновничьи инструкции? Думаю, что Бабелю было знаком страх, но он не был всепоглощающим, не парализовал его волю. Страх пересиливали чувство долга и любовь к близким, и особенно – к дочери. (О его мужественном поведении в годы ежовщины я пишу более подробно в третьей части книги – «Качели надежды»).
Неподдельным восторгом веет от строчек, посвященных Наташе, в письмах родным, посланных из Брюсселя во Францию летом 1935 года в ожидании общей семейной встречи. (27.6., 1.7., 4.7., 11.7, 15.7).
«27.6.: Я нашел Наташу во всем ее великолепии. Она не утратила ни грана своего очарования, и, кажется, рада видеть меня снова… 1.7.: Я обнаружил, что я – отец ребенка, известного своей криминальной активностью в радиусе 10 километров. Я не могу удержаться от смеха, наблюдая за девочкой. Ее наследственность особенно сказывается, когда она организует драматические сцены для своей собственной выгоды… 15.7.: Завтра Наташин день рождения, и мы организуем здесь детский праздник. Ты должна обещать нам повторить его в Брюсселе».
Правда, ни искреннее восхищение, ни мольбы родных остаться на Западе ничего не могли изменить. Он был непоколебим и выбрал возвращение на родину. Окончательный выбор в пользу России как места для жизни зрел в нем долго, еще со времен первого посещения Франции, но к концу 1934 года его письма говорят об этом очень убедительно. В декабре он в сердцах написал: «Единственное, что мне мешает, – это моя разлука с мамой и со всеми вами. Так что вместо оплакивания меня помогите мне – приезжайте и живите со мной». Незадолго до этого письма прошел Первый съезд Союза советских писателей, подтвердивший высокое положение Бабеля на советском литературном Олимпе, и, между прочим, проистекавшие из этого существенные житейские привилегии (пресловутый «товарообмен»).
И весной 1935 года, еще ничего не зная о предстоявшей ему скоро третьей и последней поездке во Францию, он продолжает прилагать все свое красноречие и силу убеждения, чтобы добиться возвращения матери, Евгении Борисовны и Наташи в Москву.
31 марта он сообщает в Брюссель о переданном платье для Наташи, о ее фотографиях и о планах Евгении Борисовны приехать наконец в Москву после окончания курса по этнографии. Бабель верит и надеется, что это произойдет:
«Это и будет моментом, когда глыба свалится с моего сердца».
Он пишет матери, что отверг предложения друзей о путешествиях, потому что «…должен остаться (в Москве. – Т.Л.) и работать, чтобы помочь тебе и Жене. Мое сердце успокоится только тогда, когда мое рассеянное племя соберется вместе». Второе письмо к матери от 17 апреля начинается обращением:
«Мои неинтересующиеся родственники» (можно предположить, что реакция на красноречивое обращение 31 марта была не той, которую ждал Бабель, или ее вовсе не было).
И далее Бабель снова поднимает вопрос о возвращении семьи в Москву. Он подробно излагает доводы практического характера: образование и среда для воспитания Наташи в Москве несравненно лучше, чем в Париже, ему будет легче обеспечить здесь приличный уровень жизни, в то время как в Париже его заработков едва хватает на весьма бедное их существование. И заканчивает: «Я жажду уединения, сосредоточенности, жизни, организованной по моему рецепту, и всего этого можно достичь здесь. Я пишу вам не для того, чтобы вы чувствовали себя плохо. Наоборот, я пытаюсь изо всех моих сил устроить лучшую жизнь для моей семьи».
Одержимость и мечтательность свойственны не только лирическому герою его квазиавтобиографического цикла «История моей голубятни» («квази» – потому что фактические детали жизни рассказчика и автора не всегда совпадают, но совпадают моменты духовных переживаний). Эти качества присущи и ему самому, они отчетливо проступают и в его письмах. В них часто один его фантастический план «обустройства жизни» быстро сменяется другим, нередко прямо противоположным. Постоянной остается лишь потребность мечтать о том, где и как можно снова собрать все его «рассеянное племя» и искать пути «радикальных изменений» к лучшему.
Понятно, что призывы к возвращению, адресованные матери и жене, предназначены и для перлюстраторов. Но не верится, что только для них. Да, зовет и не думает разводиться, чтобы иметь возможность помогать им. Зовет, чтобы не жаловались на недостаток помощи: там не хватает, а здесь хватило бы с излишком. Но, кажется, что самое главное – это его искреннее желание видеть дочь рядом с собой и готовность существовать в сложной ситуации. Я нахожу в его письмах неоспоримые доказательства того, что до последнего вздоха Бабель продолжал глубоко любить старшую дочь и свою первую семью, тревожиться об их судьбе. Он продолжал вникать в мельчайшие подробности их жизни, и все находило в его сердце живой и моментальный отклик.
Однако ни его страстное беспокойное сердце, жаждавшее собрать свое «рассеянное племя», ни его талант и слава, принесшие ему обеспеченное положение, ни их любовь к нему не могли преодолеть в его «неинтересующихся родственниках» недоверия к советскому режиму и страха перед ним.
В 1936 году, после смерти Горького и ужесточения антитроцкистских гонений, обстановка меняется настолько, что даже Бабелю становится ясно: шансы на следующее свидание с семьей равны нулю. Его не выпустят к ним, а им опасно переезжать в Россию. Его положение шатко, он не сможет защитить ни их, ни себя. Он уже был внутри жерновов огромной машины, из которой невозможно было вырваться.
Однако до последнего дня Бабель делал все для того, чтобы поддерживать связь с семьей и помогать ей. И ноты тоски по близким, беспокойство за судьбу старшей дочери звучат в его письмах все более настойчивым повторяющимся мотивом…
Представляю себе огромную льдину, в которой вдруг появляется трещина. Бабель оказывается по одну ее сторону, его «рассеянное племя» – по другую. Поначалу трещина едва заметна. Бабель и не обращает на нее внимания. Упорный жизнелюб, по собственному определению, человек «с веревочными нервами», он продолжает петь на своем берегу, полагаясь на то, что сила его голоса преодолеет и темную полоску воды. Но трещина все расширяется, и в ее мрачном сверкании все ощутимей глубина бездны. Бабель напрягает голос, это не дает результатов, постепенно крик его слышится все слабее, все глуше. Однако победить его непросто. В начинающийся шторм отдельные смельчаки спрыгивают с борта корабля, чтобы покачаться на волнах, еще сильней и острей, в тени угрозы, ощутить жизнь. Таким я представляю себе Бабеля, узнавая эти же качества и в моем отце.
Бабель был, что называется, «homo politicus»: все, что происходило в обществе, захватывало его и подчиняло себе – и как художника, и как человека. Но до последнего дня ни общественные, ни личные обстоятельства не вытеснили из его души и сознания образ Наташи. Его продолжали волновать любые новости из ее жизни. Он восхищался ее природным лидерством, вникал в подробности школьных успехов – ему не хотелось, чтобы она была круглой отличницей, – в детское увлечение филателией; его волновала предстоявшая операция по удалению гланд. Постоянной заботой его была пересылка ей детских книг и необычных – как сказали бы сегодня – авторских кукол. А сколько сил он тратил и к каким ухищрениям ему приходилось прибегать, чтобы посылать им на Запад деньги из тогдашней советской России! В реальности поздних тридцатых сам факт его переписки и поддержки семьи на Западе – акт незаурядной человеческой смелости. Причем ношу эту он нес один, оберегая от нее московскую семью, но по-прежнему ни на секунду не мог и помыслить от нее отказаться…
В двадцать четыре года, в самом первом из сохранившихся писем, Бабель написал о себе:
«В характере моем есть нестерпимая черта одержимости и нереального отношения к действительности. Это несмотря на некоторую житейскую приспособляемость»11.
Таким он оставался до конца жизни: искушенным и наивным; добрым до невероятности и причиняющим боль близким; преданным и изменчивым; дипломатичным и бесстрашно играющим с опасностью… При своем великолепном уме и проницательности он все-таки периодически попадал в тривиальные ловушки НКВД. С 1934 года за ним велась слежка, и в донесениях агентов сохранились его удивительно резкие высказывания в адрес политических процессов12. В атмосфере 1936–1938 годов, когда он сам, по его признанию, был «как зачумленный», и вокруг арестовывали одного за другим его друзей, Бабель не позаботился о том, чтобы где-то спрятать хоть какую-то часть своего архива. Он родился в жестокое время в страшном месте, отдавал себе в этом отчет, но не в силах был устоять перед соблазном «заглядывания в бездну». Русско-еврейский упрямый гений писателя подталкивал его идти по дороге, полной опасностей.
Унаследованное фамильное упрямство определило выбор дочерью основного дела жизни: разгадка личности отца и публикация его малоизвестных и неизвестных произведений, а также писем к матери и сестре, на английском и французском языках.
Здесь не могу не сказать еще об одной сходной черте в характерах Бабеля и Лившица: это обостренное чувство ответственности за свое слово, которое не позволяет «снизить планку». Ничто не могло заставить Бабеля изменить своей правде в искусстве. И то же – в театральных рецензиях моего отца в конце сороковых годов. Не во всех, но в лучших из них («Ярослав Мудрый», «Гроза»13) критик осмелился не считаться с принятыми стандартами времени – разгулом шовинизма и травлей «космополитов». За что и поплатился…
О ЕВГЕНИИ БОРИСОВНЕ ГРОНФАЙН
В «одинокие годы» в письмах к матери и сестре Бабель частенько жаловался на то, что Женя очень небрежна в переписке: отвечает нерегулярно и с большим опозданием, как будто делает ему одолжение. А в портрете матери, как рисует его Наташа, она предстает совсем другой. Характер у нее был гордый, и она не хотела в годы разлуки показывать, что живет надеждой на встречу с мужем, несмотря ни на что. Последнее письмо родным было отправлено Бабелем из Москвы 10 мая 1939 года, за пять дней до ареста.
…Годы немецкой оккупации Женя и Наташа пережили в маленьком французском городке на юге Франции, ничего не зная о судьбе Бабеля. Точнее, зная немногое.
Об аресте Бабеля на Западе стало известно довольно скоро. Нина Берберова пишет в книге «Курсив мой», что уже в апреле 1941 года ей было известно о его заключении. Бабелевед Сергей Поварцов вспоминал разговор с писателем и литературным критиком В.Б.Сосинским, который «вспомнил французскую фотоафишу» 1945 года с названием «Что сделал Сталин в России», – там, наряду с другими портретами репрессированных, была и фотография Бабеля»14.
Война закончилась, а надежда на чудо, что Бабель жив, смешанная с мучительной неизвестностью, жила в душе Евгении Борисовны. Эта же надежда жила в сердце и Антонины Николаевны Пирожковой. Ведь на ее послевоенные запросы НКВД неизменно отвечал, что Бабель жив, здоров и содержится в лагерях. В феврале 1954 года в Москве она подала прошение о реабилитации Исаака Эммануиловича. 23 декабря в Военной коллегии Верховного суда СССР ей вручили справку о том, что «приговор по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело о нем за отсутствием состава преступления прекращено»15.
Официальную (и фальшивую!) справку из ЗАГСа о дате и причине смерти Бабеля Пирожкова получила зимой 1955 года: «Умер от паралича сердца 17 марта 1941 года»16.
Примерно в это же время в Париже смертельно заболевает Евгения Борисовна. Она уходит из жизни в 1957 году. Официальная причина – «рак с метастазами». Но Наташа уверена в том, что мать заболела и умерла, потому что в середине 50-х утратила надежду на новую встречу с живым Бабелем!
Какой она была, первая любовь Бабеля, до конца жизни остававшаяся для него родным человеком? В письмах к матери и сестре он иногда на нее жаловался: ленива, не любит писать, неаккуратно отвечает на его послания. Наташа, среди немногих материнских черт, ею описанных, выделила такую: уходила в чтение книг настолько глубоко, что могла начисто забыть о житейских неприятностях. Она могла читать в подлиннике по-французски, который прекрасно знала с юности, а также по-английски, которым владела неплохо. Полюбила Францию и ни за что не хотела возвращаться в Россию. До конца жизни глубоко и серьезно интересовалась искусством и периодически брала курсы в Сорбонне по современным течениям в живописи и, кроме того, – по этнографии.
ВКЛАД НАТАЛИ БАБЕЛЬ В СОХРАНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ОТЦА
Еще при жизни матери Натали закончила Сорбонну. Через три года после ее смерти, в 1960 году, она в первый раз приехала в Москву на французскую выставку в качестве переводчицы. Тогда она познакомилась с теми, кто знал, помнил и любил ее отца: с Эренбургами, Катаевым, А.Н.Пирожковой и со своими единокровными братом и сестрой Михаилом ИвАновым и Лидией Бабель. А.Н.Пирожкова, вспоминая об этой встрече, написала:
«Я нашла ее очаровательной, веселой, остроумной и назвала в душе своей дочерью»17.
В честь Наташи дома у Пирожковой был устроен вечер, на который пригласили друзей Бабеля, и вот как описала свои впечатления от этой встречи Татьяна Тэсс:
«Высокая, статная, с пышными рассыпающимися каштановыми волосами… веселым и внимательным взглядом… Румяные губы улыбались, женственные плечи были откинуты назад…
Ни одна ее внешняя черта не напоминала отца. Эта была вылитая мать – Евгения Борисовна в молодые годы.
Но едва она заговорила, как я тотчас узнала в ней отца: живость, наблюдательность, юмор, открытый интерес к людям, умение входить в их жизнь… Позже я узнала в Наташе еще одну черту: от отца она унаследовала любовь к таинственности и скрытности…»18.
А вот как описывает свои впечатления от визита сама Наташа:
«Я представляла себе наше воссоединение много раз, однако наиболее живо в 1961 г., когда я впервые побывала в Москве, городе, который мой отец выбрал для жизни. Там еще можно было встретить людей, которые любили его и продолжали говорить о нем с ностальгией. Там, в тысяче миль от моего дома в Париже, сидя в его комнате, в его кресле, смакуя чай из его стакана, я чувствовала себя совершенно сбитой с толку. Вроде бы я его настигла, но он снова ускользнул от меня. Вакуум оставался, я все еще знала о нем так мало».
В 1961 году, через четыре года после смерти матери, она переехала в Нью-Йорк, где в 1964-м выпустила сборник И.Бабеля, куда вошли неопубликованные и забытые рассказы и около 390 писем к сестре и матери (1925–1939). Она – его составитель и редактор, а сборник становится важнейшим источником сведений для исследователей биографии и творчества Бабеля во всем мире. С этого начинается ее путь как исследователя творчества и биографии отца.
В 1969 году под ее редакцией вышел сборник рассказов Бабеля 1915–1937 годов «Вы должны знать все». Это было на тот момент самое полное собрание работ писателя на английском языке.
В 1994 году Натали дополнила и переиздала сборник «Одинокие годы…» (см. ссылку 9), включив в него также малоизвестные рассказы, различные выступления Бабеля и газетно-журнальные публикации, касающиеся событий, которые упоминаются в его письмах: выдержки из полемики с Буденным (1928), историю с фальшивым интервью (1930) и т.д.19.
Натали занималась творчеством отца серьезно, а потому после Сорбонны продолжила образование в Колумбийском университете, получив в 1963 году вторую степень по славистике, а в 1970 году и третью – по сравнительному литературоведению. Как и Бабель, она любила переезжать с места на место. Судьба забрасывала ее в Техас, Калифорнию и Оттаву, где она преподавала, а в 70-е и 80-е годы она работала как специалист по антиквариату в Вашингтоне. Невозможно не удивиться интуиции Татьяны Тэсс, с момента первой встречи подметившей сходство в характерах отца и дочери. Однако ее семейная жизнь, в отличие от отцовской, сложилась традиционно. Она была замужем один раз – за профессором социологии Ричардом Х. Брауном, преподававшим в университете Мэриленда. Они прожили вместе тридцать шесть лет до его смерти в 2003 году.
Вернемся к предисловию Натали 1994 года. Несмотря на фактические ошибки в некоторых биографических деталях (например, ошибочно указан переезд И.Э.Бабеля в Петербург в 1915 году, правильно – в 1916 году; год смерти отца семейства не 1923-й, как написано у нее, а 1924-й), в статье живые и поэтому бесценные подробности жизни «с Бабелем без Бабеля», сохранившиеся в памяти дочери и обогащенные сведениями, рассказанными такими важными в жизни Бабеля людьми, как его сестра Мери и друг со школьных времен Александр Френкель. Они по-новому освещают и историю его отношений с Е.Б.Гронфайн, и как повлиял на них недолгий союз писателя с Т.В.Кашириной, и обоюдную надежду, не исчезавшую до самой его смерти, на воссоединение с первой семьей в той или иной форме.
Но главное в ее статье – описание трудного и увлекательного путешествия к самой острой болевой точке души. Имеет ли субъективный взгляд Натали отношение к творчеству Бабеля? На мой взгляд, да. Уточнение внутренних личных обстоятельств помогает в попытке максимальной реконструкции той сложной эмоциональной реальности, в которой прошла бОльшая часть жизни Бабеля. Повторю еще раз, что Бабель продолжал переписываться с семьей и помогать им и в годы «большого террора», когда это стало смертельно опасным занятием. Материалы из следственного дела Бабеля, незадолго до этого опубликованные В.Шенталинским20 и включенные в статью Натали, еще раз это подтверждают.
Рассказ о жизни и судьбе Бабеля так, как представила их в своем очерке Натали, обогащает наше понимание многогранной личности выдающегося русско-еврейского писателя двадцатого века. Как я уже отметила выше, перевод писем Бабеля к матери и сестре с русского на европейские языки, в первую очередь на английский, и их публикация создали важнейший первоисточник сведений для исследователей жизни и творчества писателя во всем мире. Так же, как и введение Натали неопубликованных и малоизвестных произведений писателя в корпус переводов его текстов на английский язык.
А для меня лично исповедь о неувядающих дочерних чувствах, поиск отцовской любви длиною в жизнь оказались истинным подарком – я как будто обрела сестру, которой можно рассказать все о моих собственных переживаниях, связанных с отцом. И даже не жаль, что мы с ней не встретились: а вдруг при знакомстве это ощущение внутренней близости не возникло бы или рассеялось? Ведь все бывает…
Невозможно не подивиться прихотливым сюжетам судьбы и подаркам свыше: дочь страдала от того, что отец – вместо жизни рядом с ней и матерью – выбрал писательство, а оказалось, что литературное наследие, которое он создал вдалеке от них, определило основной внутренний стержень судьбы Натали, наполнило смыслом и содержанием ее собственную жизнь.
ПРИМЕЧАНИЯ
10 Лившиц-Азаз Т. Из семейного альбома // "О Леве Лившице: Воспоминания друзей" / Сост. Б.Милявский и Т.Лившиц-Азаз. Иерусалим, 2007. С. 204.
11 Письмо А.Г.Слоним от 7.12.1918 г. // Знамя. 1964. № 8.
12 Подробно о доносах осведомителей, сохранившихся в «деле Бабеля», я пишу в третьей части «Качели надежды».
13 Эти рецензии можно найти на сайте памяти Л.Я.Лившица: www.levlivshits.org.
14 Поварцов С. "Причина смерти – расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля". М.: Терра, 1996. С. 181.
15 Пирожкова. "Воспоминания". С. 422.
16 На самом деле приговор был приведен в исполнение уже на следующий день после его вынесения – 27 января 1940 г. Но эта дата стала известна значительно позднее. См. ссылки 12, 19 и 20.
17 Пирожкова. "Воспоминания". С. 532.
18 Тэсс Т. "Встречи с Бабелем". // Сб.: "Воспоминания о Бабеле". / Сост. А.Н.Пирожкова, Н.Н.Юргенева. М., 1989. С. 235.
19 В сборник вошли: 1. Рассказы «Колывушка», «Фроим Грач», «Справка», «Мой первый гонорар» (в первом издании 1964 г. это была первая их публикация на английском языке), «Мама. Римма и Алла», «Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна», «Сказка про бабу», «Гапа Гужва» (первая публикация на англ. яз.). 2. Письма И.Бабеля к сестре и матери 1925–1939 гг. 3. Приложение. Статьи и речи Бабеля и современников из газетно-журнальной полемики о его творчестве, о которых упоминается в письмах к матери и сестре: Рецензия П.Маркова на постановку «Заката» в МХАТе-2 в 1928 г. (См. письмо Бабеля от 28.4.1928); открытое письмо Семена Буденного М.Горькому (См. письмо от 28.10.1928) и ответ М.Горького
(См. письмо И.Бабеля от 20.10.1928); статья Бруно Ясенского «Наши люди на Ривьере» (1930 г.) (См. письмо Б. 22.7.1930); сообщение о выступлении И.Бабеля на заседании секретариата ФОСП (1930 г.) (См. письмо Б. 22.7.1930); очерк М.Горького о вечере с еврейским мальчиком-вундеркиндом (См. письмо И.Бабеля от 8.6.1934); речь Бабеля на конгрессе писателей в Москве 23.8.1934 г. (См. письмо И.Бабеля от 14.11.1934); речь И.Бабеля на встрече Союза писателей, опубликованная 5.3.1936 г. (См. письмо И.Бабеля от 18.2.1935).
20 «Прошу меня выслушать…» Досье Исаака Бабеля // Шенталинский В. "Рабы свободы". В литературных архивах КГБ. М., 1995.
Текст и фото — из книги Татьяны Лившиц-Азаз «Качели Надежды. Три сюжета из жизни Исаака Бабеля». 301 с. Глава 1-я. Изд-во «Геликон-Плюс», СПб, 2022. Книгу можно заказать по адресу [email protected]