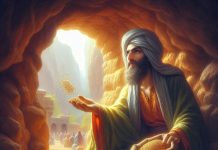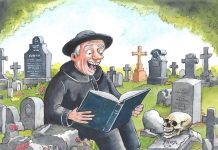Автор книг и очерков о самом известном еврейском восстании в нацистских концлагерях, продолжает рассказ об этой героической истории
Лев СИМКИН
Продолжение. Начало здесь
Будущий "отказник" и "узник Сиона" инженер Лазарь Любарский, в шестидесятые годы работавший в ростовском институте «Энергосетьпроект» познакомился с Печерским в краеведческом музее.
«У стола с макетом лагеря стоял высокий красивый мужчина лет пятидесяти и объяснял сотруднице музея детали макета, — рассказывал Любарский. — Краем уха уловил, «здесь я стоял».
Их дружба началась с того, что он предложил Печерскому помощь в переводе писем, которые шли к нему со всего мира (он знал английский, иврит и идиш). Ему присылали книги и вырезки, где упоминался Собибор, его шкаф был забит альбомами, книгами, видеокассетами, письмами, — все это он бережно хранил, систематизировал, подшивал.
Любарский рассказал мне, как они как-то разбирали полученное письмо из Израиля, и присутствовавшая при этом Ольга Ивановна вдруг выдала целую тираду про их с Печерским жалкое существование, закончившуюся весьма неожиданно: «Что ты тут сидишь, давай уедем в Израиль. Там твой народ, там тебя признают!» Муж в ответ на нее только цыкнул. При том, что между ними были исключительно теплые, трогательные отношения. Человек, совершивший побег из Собибора, на побег из СССР не решился.
В 1970 году Любарский получил израильский «вызов» и сообщил Печерскому, что идет просить о выезде в ОВИР, откуда было два пути – могли выпустить на Ближний Восток, а могли отправить на Дальний. Печерский тогда сказал ему:
«Я не смогу у вас больше бывать».
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Как в воду глядел — Любарскому не повезло, в 1972 году его арестовали за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» и отправили в места не столь отдаленные, как Израиль, на долгих четыре года. «Измышлениями» суд посчитал «изготовление и распространение в виде писем и звукозаписи передач радио Израиля». Они вновь встретились лишь в 1976 году, когда Любарскому после отсидки все же удалось получить разрешение на выезд, и Печерский передал через него несколько писем и подарков собиборовцам, жившим в Израиле. Больше они никогда не виделись.
Наш первый разговор с Любарским состоялся в октябре 2012 года в Тель-Авиве на открытии скромного памятника Печерскому. Из всего сказанного им о минувшем мне особенно запомнились слова о том, что его великий друг был смертельно напуган советской властью…
Печерский приподнял голову в начале шестидесятых и опустил ее вновь в конце десятилетия, когда «еврейская тема» была сверху закрыта. В 1969 году Любарский организовал выступление Печерского в клубе энергетиков. Перед выступлением его в мягкой форме попросили не упоминать слова «еврей» и «Израиль».

В начале семидесятых Печерский с гордостью писал друзьям, что сдал в ростовское издательство для переиздания свою книгу о восстании в Собиборе и что ее собираются включить в план 1974 года. Как включили, так и выключили…
Все публичные встречи с рассказом Печерского о Собиборе строго дозировались, с определенного момента ему разрешили выступать только в одной школе, той, где его приняли в почетные пионеры. И никогда и нигде не мог упомянуть, что восстание было еврейским.
Чего он боялся? Да чего угодно, неприятностей своей семье, например. Из моей памяти все нейдут сказанные мне слова Михаила Лева: «Героем он был там и тогда, тут героем он быть не мог». Потом, правда, писатель признался, что пожалел о сказанном… Впрочем, на мой взгляд, ничего обидного для Печерского в этом нет. Советская повседневная жизнь оказывала сильное давление на человека. Да что там Печерский, если сталинские маршалы, по словам Бродского (о Георгии Жукове), «смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою».
И не одни только маршалы. В Рязани до самой смерти (2016 год) жил участник восстания Алексей Вайцен. О главном событии своей жизни долго помалкивал. Мне не удалось с ним пообщаться, он был после инсульта, поговорил с только с внуком, названным по настоянию деда Александром – в честь Печерского. Но узнал он о пребывании деда в плену только в перестройку.
«Я все удивлялся, чего он во сне кричит: а ему всю жизнь снился Собибор».
А вот что мне рассказал общавшийся с ним не раз Дмитрий Плоткин, один из лучших следователей конца прошлого века, из Рязани. В самое сложное время – в 80-е и 90-е годы он успешно расследовал дела о серийных убийцах и бандитских группировках. По его словам, вызвать Вайцена на откровенность было едва ли не сложнее, чем тех, с кем он привык иметь дело. О лагере смерти герой рассказывал чрезвычайно скупо. Из него трудно было слово о Собиборе вытянуть – да, был в лагере, чем занимался — сортировал одежду, участвовал в восстании – и сразу переходил к рассказу о том, как воевал в партизанах, а потом в Красной армии. Сказывалась привычка молчать, долгое время он старался не афишировать свое пребывание в Собиборе. После войны остался на сверхсрочную — орденоносец, спортсмен, совершил без малого тысячу прыжков с парашютом, но долго не шел в офицеры, чтобы при очередной проверке никто вновь не предъявлял ему претензий за плен, в котором он вел себя совершенно героически.
Любарского не стало в прошлом году.
* * *
Пора рассказать подробнее о Киевском процессе, в одном из томов которого в списке свидетелей я наткнулся на фамилию «Печерский». Поначалу никак не мог поверить, что свидетельские показания героя Собибора историкам не известны. Тем не менее это оказалось именно так, хотя сведения об участии Александра Печерского в судебном процессе над лагерными охранниками можно было обнаружить буквально во всех трудах, где он упомянут. Правда, в каждом из них допущены неточности, процесс везде датирован 1963 годом, хотя дело по обвинению одиннадцати охранников Собибора рассматривалось в марте 1962 года. Ошибка объясняется тем, что единственное упоминание в печати об этом судебном процессе было лишь в 1963 году в газете «Красная звезда».
Материалы этого дела состоят из 36 пухлых томов. На обложке каждого тома — указание органа, проводившего расследование — КГБ при Совете министров Украинской ССР, и еще слова: «начато 17 февраля и окончено 17 ноября 1961 года». Окончание дела в данном контексте означало завершение предварительного расследования, после которого председатель украинского КГБ (а не прокурор, как положено по закону), утвердил обвинительное заключение, и все материалы были переданы в военный трибунал Киевского военного округа. Судебное же рассмотрение закончилось 31 марта 1962 года, в этот день всем подсудимым был вынесен смертный приговор. Их признали виновными в том, что «являясь военнослужащими Советской армии, были в 1941-42 гг. пленены немецкими войсками, помещены в лагеря для военнопленных и, изменив Родине, перешли на службу к врагу прошли специальную подготовку в учебном лагере в м. Травники, после чего приняли присягу на верность службы немецко-фашистскому командованию и в 1942-43 гг. приняли активное участие в массовом истреблении граждан в Треблинском и Собиборском лагерях смерти».
Типичные «травники» — по анкетным данным они мало отличались от подсудимых по другим делам на коллаборационистов, прочитанным мною. Годы рождения — 1918-1923, реже 1910-1912. Преимущественно происходили они из сельской местности, один немец (по отцу), пятеро русских и столько же украинцев, большинство с «низшим» образованием, некоторые с семью классами. Все в начале войны были призваны в армию, потому, собственно, их, как бывших военнослужащих Советской армии, и судил военный трибунал.
После закрытия Собибора судьба их сложилась по-разному. Большинство потом охраняли другие концлагеря. Алексей Говоров в 1944 году перешел во власовскую армию. Шульц служил в полицейских частях в Италии, оттуда бежал к югославским партизанам, где назвался Вертоградовым, помогал им перегонять трофейные машины из Триеста. Прищ в 1945 году вернулся в Красную армию и успел там до разоблачения сколько-то прослужить. Были и более оригинальные судьбы.
«Примите меня в КП», — такое заявление о приеме в коммунистическую партию подал один чудак. Ему предложили переписать заявление — партия-то называлась не КП, а КПСС. Нет, говорит, хочу в КП, в СС я уже был. Сочинитель этого старого советского (а точнее антисоветского) анекдота целил в тех представителей нашей славной партии, кто вел себя подобно эсэсовцам — такие тоже бывали. Но если бы мне в то время рассказали, что реальный человек, бывший эсэсовец, естественно, скрывавший свое прошлое, подал заявление в партию, я никогда бы в такое не поверил.
Тем не менее бывший вахман СС Иван Куринный в 1951 году именно так поступил и, представьте, был принят, как тогда говорилось, «в ряды КПСС». Кем же надо было быть, чтобы суметь так скрыть ото всех свое прошлое? А надо было всего-навсего спрятаться среди тех, кто был вне каких-либо подозрений, то есть в «органах». В 1945 году Куринный Иван Николаевич изменил две буквы в своей фамилии и стал Куренной (вроде одно и то же, да не то) и поступил на службу в ГУЛАГ, благо характер работы был ему хорошо знаком. Два года в Киеве на лагпункте охранял зеков, потом вырос до инспектора колонии. В 1951 году окончил офицерскую школу ВОХР МВД, получил звание младшего лейтенанта. Тогда-то он настолько обнаглел, что подал заявление в партию. Исключили из рядов его только в 1954-м, прознав, что служил у немцев. Из МВД уволили, но тогда не посадили, видно, как своего. 18 мая 1961 года допрашивали свидетеля Василия Куринного. Брат, рассказал он следователю, приезжал домой только раз, в 1947 году, был в солдатской форме. Матери изредка писал письма, в последнем — о том, как в 1960 году поранил ногу на мотоцикле.
О том, что это было за ранение, и что мотоцикл тут совершенно ни при чем, я узнал из подшитой в дело производственной характеристики на старшего стрелочника Куренного, подписанной начальником железнодорожной станции Багратионовск Ф.Бугаевым. Как там сказано, к исполнению служебных обязанностей относился добросовестно, получал благодарности, принимал участие в общественной жизни коллектива. «11 сентября 1960 года при исполнении служебных обязанностей в ночное время самовольно оставил стрелочный пост и при попытке хищения яблок в саду школы-интернат № 6 был ранен в левую ногу из ружья. Вследствие ранения был признан инвалидом 3 группы, ему была установлена пенсия 19 руб. 45 коп.» Это в Собиборе можно было безнаказанно отнимать чужое, здесь же вышло иначе.
Несмотря на случившееся невезение, Куринный оказался (до определенного момента) одним из самых удачливых «травников», ему до киевского процесса удалось избежать лагеря, хотя его, как и других из списка вахманов, искали все послевоенные годы. Ему так долго – пятнадцать лет — удавалось скрываться еще и потому, что после службы в «органах» он уехал в далекую Калининградскую область, где устроился стрелочником на железную дорогу. По-видимому, ему был знаком опыт тех, кому в предвоенные годы удалось избежать большого террора — когда люди, которых неминуемо ждал арест, исчезали из дома, уезжали в глухомань, и только благодаря этому выживали.
Самых опасных палачей, растворившихся на просторах огромной страны, как я уже говорил, продолжали искать после войны. Искали полицейских, причастных к расправе над «Молодой гвардией». Заместителя начальника краснодонской полиции В.Подтынного (он изменил биографические данные и лейтенантом продолжил службу в Красной армии, был ранен, награжден орденами) опознали в 1959 году, а принимавшего участие в обысках, облавах и арестах краснодонских подпольщиков полицейского И.Мельникова, тоже мобилизованного в Красную армию и сумевшего скрыть прошлое, — только в 1965 году. Обоих приговорили к расстрелу.
Основой для поиска стала особая картотека оперативного учета разыскиваемых лиц (сотрудники гестапо, следователи, полицейские, бургомистры, старосты, руководители оккупационных учреждений и участники гитлеровских зверств). Одним из ее источников стали трофейные учетно-регистрационные материалы, как, например, те, что попали в руки СМЕРШ в 1944 году в расположенной на территории Польши школе СС Травники, где прошли обучение около пяти тысяч вахманов СС. Наступление Красной Армии было столь стремительно, что нацисты не успели вывезти или уничтожить документы, личные учетные карточки с фотографиями многих курсантов, распоряжения о направлении или переводе вахманов из лагеря в лагерь. 23 июля 1944 г. Люблин и прилегающие к нему районы Восточной Польши, включая городок Травники были освобождены, в руки СМЕРШ попали многочисленные лагерные документы, которые потом много лет фигурировали в уголовных делах.
Первые из них рассматривались военными трибуналами летом и осенью 1944 года. Сразу захватили нескольких «травников», служивших в лагерях. Некоторые из них, родом из Западной Украины, после ухода немцев рассчитывали укрыться в Польше. Однако после войны оттуда в СССР переселили до полумиллиона украинцев – в обмен на поляков, живших в Западной Украине. Все перемещенные из Польши украинцы подвергались особой проверке, в результате было выявлено много нацистских пособников.
Окончание следует
Поделиться ссылкой на данную публикацию через блог IsraGeoMagazine в соцсети Facebook вы можете здесь