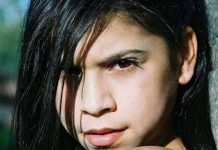Последние дни жизни Михаила Афанасьевича Булгакова рядом с ним безотлучно находились Елена Сергеевна, её старший сын десятиклассник Женя Шиловский и несколько самых надёжных друзей писателя
Владислав КАЦ, Нетания
После развода Елены Сергеевны с её прежним мужем Е.А.Шиловским Женя, по обоюдному согласию родителей, остался с отцом. Он одинаково любил обоих родителей, поэтому маму Женя навещал довольно часто, чтобы побыть час-другой вместе с ней. К Михаилу Афанасьевичу он очень скоро привязался и относился к нему с уважением и откровенным восхищением.
Серёжа, младший сын Елены Сергеевны, стал полноправным членом семьи Булгаковых и даже литературным персонажем. Михаил Афанасьевич изобразил своего пасынка в «Театральном романе» среди десятков персонажей, в которых без труда угадывались московские знаменитости из мира литературы и искусства.
Этот факт задел старшего сына Елены Сергеевны. Жене также хотелось получить известность. Он высказал писателю своё пожелание.
В книге Мариэтты Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова» приводится рассказ Елены Сергеевны об их разговоре.
«Старший, Женечка, обижался, — рассказывала она нам в один из ноябрьских дней 1969 года, — что Сережка есть в книгах Михаила Афанасьевича, а его нет.
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
— Знаешь, Женя, это можно, — серьезно отвечал Булгаков, — но денег стоит!
Если, например, я напишу: «Мимо скамейки, где сидела Маргарита, прошел молодой человек», — про тебя напишу, то это будет стоить — три рубля. Если напишу — «красивый молодой человек» — это уже на пять рублей. А если — «какой красивый! — подумала Маргарита», то это — десять рублей!».
Шутки-шутками, но Женя постоянно искал возможность быть полезным Булгакову. Однажды он передал для него через Елену Сергеевну вырезку из газеты «Вечерняя Москва». В ней сообщалось о том, что Уильям Буллит, первый посол США в Советском Союзе, вскоре после приезда в Москву смотрел во МХАТе спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных». В книге отзывов посол оставил краткую запись: «Прекрасная пьеса, прекрасное исполнение». Мал золотник, да дорог!
Почти через два десятка лет после смерти литератора Сергея Александровича Ермолинского вышли из печати его воспоминания «О времени, о Булгакове и о себе». В них можно найти следующие строки:
«Все последние ночи со мной вместе (в комнате маленького Сережи, на полу) ночевали Дмитриев и Борис Эрдман. С утра приходил Женя, старший сын Лены, Булгаков трогал его лицо и улыбался. Он делал это не только потому, что любил этого темноволосого очень красивого юношу, холодновато-сдержанного, по-взрослому отвечающего за каждое свое душевное движение, он делал это не только для него, но и для Лены. Быть может, это было последним проявлением его любви к ней — и благодарности».
Понимая, сколь необходима маме помощь по уходу за больным мужем, Женя ночевал у Булгаковых с декабря 1939 года. Младшего брата Серёжу временно отправили к отцу, а Женя почти не ходил на занятия, потому что мужские руки в той тяжёлой ситуации требовались постоянно. Нужно было поднимать больного, менять ему бельё и постель. Держаться на ногах Михаил Афанасьевич уже не мог, а поднять его одному человеку было не под силу.
Женя дежурил у постели Булгакова и в последние мгновения до его кончины. Елена Сергеевна ненадолго вышла из комнаты как Женя тут же прибежал за ней.
«Мамочка, он ищет тебя рукой» — я побежала, взяла руку, Миша стал дышать все чаще, чаще, потом открыл неожиданно очень широко глаза, вздохнул. В глазах было изумление, они налились необычайным светом. Умер. Это было в 16 ч. 39 м.» —так записано в тетради рукой Елены Сергеевны. Её старшая сестра Ольга Сергеевна Бокшанская в те трагические дни не покидала квартиру Булгаковых. Она работала секретарём в дирекции МХАТа. Это она, Ольга Сергеевна, два года назад, под диктовку впервые отпечатала на машинке полный текст «Мастера и Маргариты».
Своего племянника Ольга Сергеевна обожала: «Женечка был совершенно изумительно умен, тактичен, он — это главная Люсина поддержка, его она слушается, к нему все время тянется, и он так тонко, так поразительно верно во всем самом сложном душевном разбирается».
Женя учился в 110-й московской школе. По нынешним меркам её можно назвать элитной как по качеству обучения, так и по положению, которое занимали родители большинства учащихся.
В одном классе с Женей Шиловским училась Дзидра Кадик. Она в 1938 году вернулась с родителями из Англии. Её отец Эдуард Яковлевич Кадик получил в столице должность заместителя Управделами Наркомфина СССР. До 1938 года Кадик возглавлял в Лондоне АРКОС, крупнейшее советское импортно-экспортное объединение.
Арестовали Эдуарда Яковлевича Кадика в его квартире на Малой Бронной ночью с 6 на 7 ноября 1939 года. В ту ночь Кадику исполнилось 50 лет. Бывший латышский стрелок, один из первых советских дипкурьеров Эдуард Кадик получил от своих хозяев 15 лет исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества и последующей ссылкой.
Женя и Дзидра дружили со школьной скамьи. Незадолго до войны поженились, да брак оказался недолгим. Впрочем, предоставим слово Дзидре Тубельской, она же Зюка Тур.
«Он был очень красив. Глаза, всегда немного грустные, были опушены длинными ресницами. Непокорная прядь волос вечно падала ему на глаза. Во время уроков я стала часто ловить на себе его взгляд. В один прекрасный день Женя пригласил меня в театр, во МХАТ. На «Дни Турбиных». Это было неслыханным подарком! Ведь для того, чтобы достать билеты, приходилось ночь выстаивать в очереди. Я была вне себя от счастья. Женечке я заявила, что не имею права больше с ним встречаться, ибо это может повредить и его отцу, и дому Булгаковых. Женя был в отчаянии от моего решения, но я твердо настаивала на своем. Он твердил, что ни за что не бросит меня в беде. Я же повторяла, что без согласия Евгения Александровича и Елены Сергеевны не буду с ним больше встречаться вне школы.
Через пару недель Женя сказал, что меня хочет видеть Евгений Александрович. Мы вместе пошли на Ржевский. С глубочайшей признательностью вспоминаю наш разговор. Он нашел верные, умные слова. Убедил меня, что я ни в чем не виновата и должна гордо держать голову. Сказал, что ни при каких условиях не закроет передо мной дверь. Его слова вернули мне душевное равновесие…
Осенью Женя и я приступили к учебе. Все свободное время, которого у нас было очень мало, мы проводили вместе. Женя стал настаивать, чтобы мы поженились, и чтобы я переехала к нему в Ржевский. Я возражала, говорила, что мы не имеем права жениться, ибо моего заработка нам не хватит на жизнь. Кроме того, я все еще опасалась осложнить жизнь Шиловских своим статусом «дочери врага народа». Все же после многочисленных разговоров с Евгением Александровичем и с его благословения я дала согласие на брак, и мы решили «расписаться», как это тогда называлось, в ближайшее время.
Всего через пару месяцев началась война… Нам с Женей оставалось быть вместе чуть больше двух недель. Мы с Еленой Сергеевной проводили его на место сбора. Никто и не подозревал, что это наша последняя встреча с Женечкой как мужа и жены. Жизнь так распорядилась».
Военная служба Евгения Шиловского началась в сентябре 1941 года. Краснопресненский райвоенкомат направил его на учёбу в 1-е Московское артиллерийское училище имени Красина. Там готовили офицеров для частей тяжёлой артиллерии. Красноармейца Шиловского зачислили во 2-й дивизион на ускоренный курс обучения. После первых месяцев учёбы программа подготовки претерпела коренные изменения так как училище перешло в ведение гвардейских миномётных частей Красной Армии. Вместо пушек на территории появились боевые машины реактивной артиллерии, укрытые брезентом и находившиеся постоянно под охраной. Курсанты начали осваивать пусковые установки БМ-13, вскоре ставшие известными как «катюши».
Когда начались ночные налёты вражеской авиации на Москву курсанты училища обеспечивали ликвидацию последствий бомбовых ударов. Они тушили пожары, «гасили» зажигательные бомбы, привлекались для патрулирования и прочёсывания местности. Через несколько лет бывшим курсантам вручат медали «За оборону Москвы». Получит её и Евгений Шиловский.
7 ноября 1941 года личный состав 1-го гвардейского Московского миномётно-артиллерийского училища – так оно именовалось с недавнего времени – открывал парад войск на Красной площади. Подготовка к параду проходила в обстановке повышенной секретности, под условным названием «Операция войск Московского гарнизона». На следующий день началась переброска училища на восток, в уральский город Миасс.
Четыре месяца напряжённой учёбы пролетели, как сон. Евгений Шиловский сдал экзамены, получил первичное офицерское звание, после чего вместе с другими выпускниками отправился в Москву. Им надлежало явиться в Штаб формирования Гвардейских миномётных частей за назначениями.
Далее следы лейтенанта Шиловского временно теряются. Из документов, представленных в банке данных «Подвиг народа», следует, что Евгений Шиловский попал в 240-й Отдельный гвардейский миномётный дивизион. Указанный дивизион с 20 марта 1942 г. действовал на Калининском и Западном фронтах. Залпы «катюш» весьма эффективно поддерживали пехоту. Земляк и тёзка Евгения Шиловского гвардии старший лейтенант Рыбников к концу года уже командовал батареей. Юго-восточнее деревни Глазыри его «катюши» с открытой позиции нанесли удар по скоплению немецкой пехоты и танков. За пять минут они превратили в пепел до трёхсот пехотинцев и сожгли девять танков. Евгений Рыбников получил свой первый орден Красной Звезды.
Фамилия Шиловского Е.Е. в наградных листах и приказах вплоть до 1944 года отсутствует. Где и на какой должности находился Евгений Евгеньевич в течение двух военных лет – этот вопрос долго оставался без ответа. Правда, Елена Сергеевна в одном из писем близкой подруге Татьяне Луговской сообщала, что Женя находится на Западном фронте, пишет ей чудесные письма. «Боже мой, только бы мне его не потерять!», — сетовала она. Можно допустить, что Елена Сергеевна не раз и не два добивалась от бывшего мужа, чтобы он побеспокоился о безопасности их общего сына. Она знала, что такая возможность у него была. Генерал и профессор Е.А.Шиловский руководил кафедрой оперативного искусства в Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова.
Уточнить наше предположение о Жене Шиловском удалось благодаря книге воспоминаний Миры Иеронимовны Уборевич. До ареста родителей Мира жила в одном доме с Шиловскими по Большому Ржевскому переулку 11. Отца Миры, командарма 1 ранга В.И.Уборевича, расстреляли в 1937 году как «участника военного заговора с целью подготовки свержения советской власти путем вооруженного восстания и поражения СССР в будущей войне».
Миру, ей исполнилось тринадцать лет, отправили в Нижнеисетский детский дом. В Москву вернулась через четыре года, поступила в институт. В 1944 году её арестовали. Пять лет лагерей с дальнейшей высылкой в Воркуту. Она находилась там до 1957 года. Елена Сергеевна Булгакова убедила Миру Уборевич описать свою жизнь. В результате увидела свет её книга «14 писем Елене Сергеевне». В одном из её писем (№ 9, 6-VIII-63) мне попались строки о Евгении Шиловском.
«К весне в дом к Елене Сергеевне пришло известие: с фронта ехал ее старший сын Женечка (имеется в виду весна 1943 г.). Я Женечку очень любила со своего раннего детства, с пяти лет. Конечно, когда мы стали старше, наверно я и была в него влюблена, но в Ташкенте я была счастлива его видеть по-дружески, как родного. В письмах к маме он посылал с фронта стихи Симонова. Побыв с нами несколько дней, он уехал в Самарканд в Академию».
Теперь ситуация немного прояснилась. Оставалось выяснить какие академии были эвакуированы в Самарканд. Таковых оказалось несколько, включая Михайловскую военную артиллерийскую. Туда и был отозван с фронта на учёбу Евгений Шиловский. В древней столице империи Тамерлана он находился не менее года, после чего убыл в действующую армию на стажировку. Для уточнения приведу ещё одну цитату из книги Миры Уборевич.
«В 1944-м, уже летом, меня пригласила к себе в гости Елена Сергеевна… Она устроила проводы Жене, который ехал снова на фронт. За столом были Оленька с Евгением Васильевичем Калужским, мы с Женей, Елена Сергеевна. В подарок Жене были приглашены Качалов и Фаина Раневская.
Качалов читал Бунина, а Фаина Георгиевна рассказала нам о своей новой работе в спектакле «Лодочница» театра Революции. Тут мы с Женей покатывались со смеху. До слез. Это была для меня еще одна радость – встреча с любимыми людьми».
Участие Е.Е.Шиловского в Отечественной войне документально подтверждается с мая 1944 г. Стажировку он проходил в 11-й гвардейской артиллерийской бригаде. Это уже не «катюши», а пушки. В одном из документов зафиксированы грамотные действия «стажёра на командира батареи гвардии старшего лейтенанта Евгения Шиловского» в боях за город Волковышки (Вилкавишкис)». По итогам боёв стажёр Шиловский награждён орденом Красной Звезды, после чего его оставили в бригаде командовать батареей. Вторую награду, орден Отечественной войны 1 степени, Евгению Шиловскому вручил командир бригады в феврале сорок пятого года за умелую организацию разведки и подавление батарей противника. Других отличий за службу годы войны Евгений не имел, если не считать медаль «За оборону Москвы».
После Победы Евгений решил продолжить военную карьеру. О служении Мельпомене не могло быть и речи. Переходить с офицерского оклада на стипендию было поздно. Пора было обзаводиться семьёй. В том же сорок пятом году старшего лейтенанта Е.Е.Шиловского перевели в город Коломну командовать батареей в артполку при Высшей офицерской артиллерийской штабной школе. Ещё через какое-то время Евгению удалось окончательно обосноваться в Москве. Летом сорок шестого года он сдал экзамены в военную академию имени Фрунзе, прошёл мандатную комиссию. Всех офицеров, зачисленных на первый курс, отправили в летние лагеря. Они находились недалеко от Москвы, так что Евгений имел возможность каждую неделю навещать родителей.
Генерал Е.А.Шиловский в автобиографии от 1947 года писал: «От первого брака я имею двух сыновей: Евгений рожд. 1921 г. (живет со мной); старший лейтенант, орденоносец, член партии, учится в Академии им. Фрунзе, и Сергей рождения 1926 г. (живет с матерью) — студент ВУЗа».
В приведённой цитате обращает на себя внимание вскользь приведённое упоминание о матери его сыновей, без указания фамилии и имени. Никаких других подробностей о ней в пространной генеральской автобиографии не обнаружено. Генерал был человеком умным. К чему распространяться о том, что на протяжении десятка лет его женой была дочь крещёного еврея по фамилии Нюренберг. Один брат Елены Сергеевны сгинул в Норильске, осуждённый как латышский шпион. Другой брат репатриировался Германию за год до начала Второй мировой войны.
Полагаю, и гвардии старший лейтенант Е.Е.Шиловский в бумагах, заполненных при поступлении в военную академию, также не вдавался в подробности относительно происхождения своей мамы, а тем более, не упоминал о судьбе отца своей бывшей супруги. Советская действительность научила всех советских граждан постоянно жить с оглядкой. Михаил Афанасьевич Булгаков всю жизнь тщательно скрывал, что после 1919 года призывался на службу и служил всем властям, занимавшим Киев.
Трудно сказать по каким причинам не сложилась дальнейшая карьера Евгения Шиловского в Советской армии. Образованный офицер, фронтовик он крайне медленно продвигался по службе, закончил её в звании майора.
Образцом для Жени служил отец, дворянин, бывший офицер Евгений Александрович Шиловский, участник Первой мировой войны, кавалер шести орденов, которыми был награждён до 1916 года. В Красной Армии он считался военным теоретиком, был автором ряда научно-исторических трудов по военному искусству. Всегда и во всём Евгений Александрович оставался человеком высокой морали и чести. Он умер от инсульта в своём служебном кабинете 27 мая 1952 года.
Через пять лет Елена Сергеевна Булгакова проводила в последний путь их старшего сына, Евгения Евгеньевича Шиловского. В том году ему должно было исполниться 36 лет.