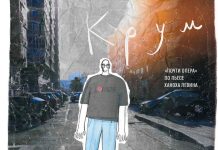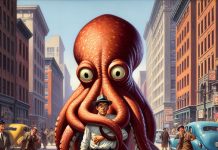О праве израильского гражданина на добровольный уход из жизни
Пинхас ЛЮК
Прецедентное решение судьи Тель-авивского окружного суда Рахамима Коэна отключить от систем искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 40-летнего мужчину, страдающего мышечной атрофией, и последующее утверждение этого вердикта юридическим советником правительства Иегудой Вайнштейном, вызвало весьма неоднозначную реакцию как у израильских юристов, так и у раввинов, психологов и специалистов по медицинской этике.
Дело в том, что существующий закон запрещает врачам в каком-либо виде способствовать самоубийству тяжело больного человека, то есть предпринимать любые активные действия, направленные на его уход из жизни. Согласно тексту закона, в случае, если речь идет о смертельно больном и тяжело страдающем человеке, врачи могут лишь проявить пассивность, то есть отказаться от дальнейшего поддержания его жизни, да и то лишь тогда, когда, по всем оценкам, такому пациенту осталось жить не более полугода.
В данном случае мнение специалистов было однозначно: медики еще могли поддерживать жизнь этого мужчины более полугода, а возможно, и года. А это значит, что судья Коэн, по сути дела, пошел на прямое нарушение закона. Более того, возник вопрос и о том, является ли отключение от ИВЛ активным или пассивным действием?
Любопытно, что юридический советник Иегуда Вайнштейн начал обоснование своего решения с пространного цитирования стихотворения Дальи Равикович "Моя мама хочет умереть…". Затем он объяснил, что "хотя, по оценкам врачей, пациент мог прожить больше полугода, то есть срока, предусмотренного законом, в данном случае дух закона важнее буквы".
Таким образом, Вайнштейн, по сути дела, попросту "обогнул" существующий закон, заодно проигнорировав вопрос об активной и пассивной помощи врачей по уходу из жизни.
По мнению философов, это означает победу "буддистского" подхода к ценности человеческой жизни, которая, вопреки еврейскому (запрещающему самоубийство в любой форме как посягательство на прерогативу Бога), считает, что цель человеческой жизни – избегать страданий, и если страдания невыносимы, то их прекращение – высочайший акт милосердия.
Но адвокат Иегуда Ифрах обращает внимание, что решение Коэна-Вайнштейна, по сути дела, означает победу позиции тех европейских радикальных либералов, которые утверждают, что любой человек вправе распоряжаться своей жизнью, и если он хочет из нее уйти, то помощь в этом уходе – не преступление. Все это привело к появлению в Европе различных организаций, напоминающих "Клуб самоубийц" из "Приключений принца Флоризеля" или отель "Танатос" из знаменитого рассказа Моруа.
Адвокат Ифрах напоминает, что некоторое время назад один молодой израильтянин, страдающий обычной депрессией (которая в итоге почти всегда излечивается), направил письмо в одну из таких организаций – швейцарскую "Dignitas" — с просьбой помочь ему совершить самоубийство.
Полученный ответ гласил:
"Дорогой друг!
Мы всем сердцем понимаем твое тяжелое душевное состояние, от которого ты так долго и сильно страдаешь, и поддерживаем твое решение. К сожалению, в настоящее время мы не можем помочь тебе найти врача, который осуществил бы твое желание, поскольку Ассоциация психиатров Швейцарии настоятельно рекомендовала врачам не сотрудничать с нашей организацией, так как закон об эвтаназии не совсем однозначен, когда дело касается несмертельных заболеваний. Вместе с тем мы продолжим борьбу за право каждого человека на свободу выбора, включая выбор между жизнью и смертью, независимо от болезней, которыми человек страдает. Но эта борьба, безусловно, займет длительное время, так как мы – небольшая организация с очень ограниченными ресурсами.
Если вы хотите пожертвовать нам деньги…"
Иегуда Ифтах констатирует, что вольно или невольно своим прецедентным решением судья и юридический советник сделали шаг в сторону одобрения позиции, занимаемой подобными организациями. Если за ним последуют (пусть и не сразу) другие аналогичные шаги, изменяющие де-факто действующее законодательство, страшно предположить, куда могут скатиться юридическая система и медицина страны…
[nn]