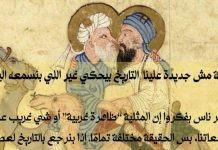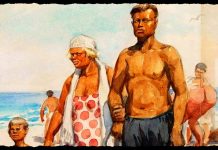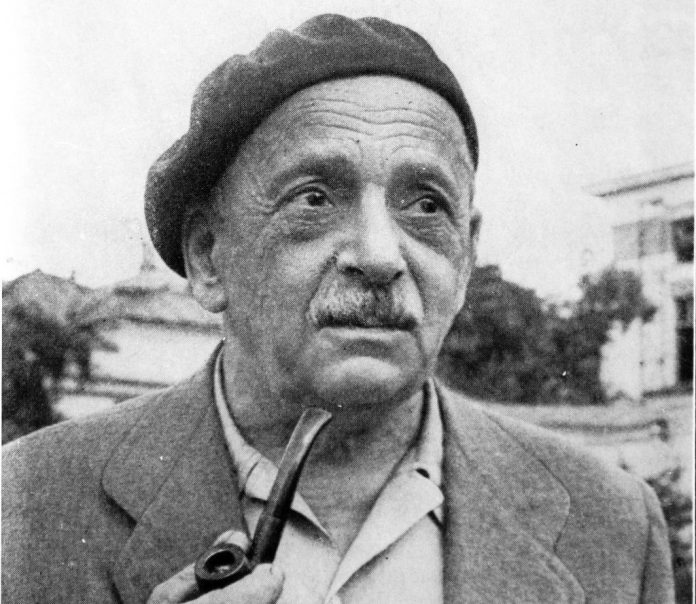Еврейская муза Павла Антокольского
Матвей ГЕЙЗЕР
Павел Григорьевич Антокольский, заметный поэт, переводчик, эссеист, родился в Петербурге, но всю жизнь прожил в Москве. Свою творческую карьеру он начинал как режиссер драматической студии Евгения Багратионовича Вахтангова, был не только его сподвижником, но и близким другом.
По сей день со сцены театра Вахтангова не сходит «Принцесса Турандот». В постановке этого спектакля Антокольский сыграл в свое время заметную роль. Он-то и предложил молодому Евгению Вахтангову поставить «Игру» по пьесе Гоцци «Принцесса Турандот» и предрек, что спектакль окажется столь же вечным, как и творение Гоцци.
Здесь, в студии Вахтангова Антокольский познакомился и подружился с молодым Юрием Завадским, игравшим в «Турандот» Калафа.
Павел Антокольский — племянник скульптора Марка Матвеевича Антокольского. Видно, любовь к скульптуре, живописи у них в роду. Ему пророчили будущее художника, актера… Но отнюдь не поэта.
А Александр Архангельский как-то написал на Антокольского такую эпиграмму:
Почему бы вам не стать поэтом
И не сесть не медля за стихи?
Внял я предложенью консультанта.
Прошлое! Насмарку! И на слом!
Родовыми схватками таланта
Я взыграл за письменным столом.
В этой эпиграмме шутки только доля. С начала 20-х годов и до конца своих дней (Павел Григорьевич умер в Москве в 1978 году) Антокольский в первую очередь был поэтом и только потом переводчиком и прозаиком — его книга о Пушкине получила высокую оценку литературоведов. Первый поэтический сборник «Стихотворения» вышел в 1922 году, а последние стихи написаны уже спустя полвека.
Он был непререкаемым авторитетом для молодых поэтов, вошедших в поэзию в военные и послевоенные годы, — список литераторов, считавших Антокольского своим учителем, состоял бы из десятков имен. Но мы перечислять их не будем. Зато процитируем строки, посвященные П.Антокольскому двумя замечательными поэтами. Свое послание к нему Ярослав Смеляков завершает так:
Здравствуй, Павел Григорьевич,
Древнерусский еврей!
А вот последнее четверостишье из «Письма Антокольскому» Булата Окуджавы:
До свидания, Павел Григорьевич! Нам сдаваться нельзя.
Все враги после нашей смерти запишутся к нам в друзья.
Но перед бурей всегда надежней в будущее глядеть…
Самые чистые рубахи велит капитан надеть!
Какой особый пиетет авторов к адресату!
Еврейство Антокольского, о котором упомянул Смеляков, определило одну из важнейших тем в его творчестве.
Есть у Павла Антокольского стихи, по сути даже маленькая поэма — «Теряются следы в тысячелетиях». Написать ее заставил Бабий Яр. Главное и вечное, что хотелось сказать поэту, с особой, библейской силой прозвучало в последних строфах.
…Очнись, дитя библейского народа!
Газ или плетка, иль глоток свинца, —
Встань, юная! В делах такого рода,
В такой любви не может быть конца.
В такую ночь безжалостно распахнут
Небесный купол в прозелени звезд,
Сверкает море, розы душно пахнут
Сквозь сотни лет, за сотни тысяч верст.
Я для свиданья нашего построил
Висячие над вечностью мосты.
Все мирозданье слышит:
— Шма, Исроэль! — и пышет алым пламенем.
А ты?
В этих строках столько глубины, зрелого поэтического сознания, любви к истории своего народа! Эта любовь изливается и в знаменитой поэме Антокольского «Сын», и в одном из самых потрясающих произведений на еврейскую тему — «Лагерь уничтожения». Вот из него отрывок.
…И тогда подошла к нам, желта, как лимон,
та старушка в три тысячи лет,
в кацавейке, в платке допотопных времен,
еле двигавший ноги скелет…
…«Извините. Я шла по дорожным столбам,
по местечкам, сожженным дотла.
Вы не знаете, где мои мальчики, пан?
Не заметили, где их тела?
Извините меня. Я глуха и слепа.
Может быть, среди польских равнин,
Может быть, эти сломанные черепа —
Мой Иосиф и мой Веньямин?..»
Читая эти трагические, воистину библейской силы стихи, еще раз задаюсь вопросом, как пришел к еврейской теме воистину русский поэт, чья юность и молодость, в отличие, скажем, от Маршака, прошли вдалеке от «еврейской улицы»? На этот вопрос отчасти ответ дан в процитированном выше стихотворении «Теряются следы в тысячелетних…». Есть в нем такие строки:
…Прости мне три столетья опозданья
и два тысячелетья немоты.
Опять мы разминулись поездами
на станции, где отпылала ты…
…Мой дед-ваятель ждал тебя полвека,
врубаясь в мрамор маленьким резцом,
чтоб ты явилась взгляду человека
с таким вот точно девичьим лицом…
Павел Антокольский не мог не написать стихотворения «Теряются следы в тысячелетних…», опубликованное в журнале «Знамя» (1946, №7). Оно явилось логическим продолжением самого великого творения поэта Антокольского – поэмы «Сын». Есть в ней такие строки:
Почувствуй же, каким преданьем древним
Повеяло от смуглого чела!
Ведь молодость, так быстро догорев в нем,
сама клубиться дымом начала –
горячим пеплом всех сожженных библий,
всех польских гетто и концлагерей –
за всех, за всех, которые погибли,
он полурусский и полуеврей,
проснулся для войны от летаргии
младенческой…
Без еврейской музы Павла Антокольского, как и без стихов М.Светлова, И.Сельвинского, И.Уткина, М.Цетлина, антология русско-еврейской поэзии была бы немыслимой…
Выражаем благодарность дочери Матвея Гейзера Марине за предоставленные нашей редакции архивы известного писателя и журналиста, одного из ведущих специалистов по еврейской истории.