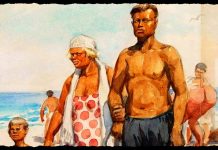Неразгаданные тайны Бориса Пастернака
Эфраим БАУХ (1934 – 2020)
Говорят — "Заблудился в трех соснах".
А если этим трем соснам на кладбище подмосковного села Переделкино Божественной судьбой назначено быть причастными к месту, где вечно пребывает дух великого поэта Бориса Леонидовича Пастернака, то это "заблуждение" оборачивается истинным величием в окружении безличия надгробий генералов и сановников.
Андрей Вознесенский, благословенной памяти, говорил: "У Пастернака каждая строка, как клавиша от фортепьяно".
Глядя на рояль в комнате второй жены Бориса Леонидовича Зинаиды Николаевны, я вспоминал Генриха Нейгауза, ее первого супруга, на минуту забыв, что сам Пастернак великолепно музицировал, был воистину талантливым музыкантом, учился композиции у Скрябина, сочинил две прелюдии и сонату. В 1979 году издательство "Советский композитор" опубликовало "Сонату для фортепьяно" Бориса Пастернака.
В окна его дачи ломится беззвучно и древне — деревня со странным названием — Переделкино, ибо ничего, кроме великого духа и ощутимого дыхания вечности не может в этих стенах присутствовать и, тем более, подвергаться переделке. Один такой взгляд из окна этого дома пронизывает всю жизнь, во всяком случае, относится к пронзительным ее мгновениям.
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Теперь в этих комнатах стоит музейная тишина.
Но — не семейная.
Явно скрипнула входная дверь. Вкрадчиво возник сардонический нос Бармалея в облике незабвенного Ролана Быкова — нос соседушки "дедушки Корнея". Чуковский в этом доме был частым гостем. Начиная со знаменитой "Чукоккалы", каждую "мелочь" жизни он записывал в дневнике. И все знаменитости в течение его долгой жизни отмечались в "Чукоккале".
Вот и сейчас его длинная фигура на знаменитой фотографии из парижской газеты "Русская мысль", почти переламываясь, склонилась над гостевым столом в этом доме, за которым сидит сам Борис Пастернак со слабой улыбкой на лице, явно по просьбе невидимого фотографа, можно сказать, всегда "третьего нелишнего". А пришел дедушка поздравить великого поэта с присуждением Нобелевской премии. Ну, и, естественно, — величальная. Конечно же, всегда некстати, но ведь — соседушка.
В доме поэта он застает первую жену Бориса Леонидовича Евгению Владимировну Лурье, художницу, мать его детей, и, как истинный английский джентльмен, идет ее провожать. В пути она смущенно оправдывается: когда Борису плохо, он приходит к ней, жалуется, обещает вернуться. А как ему становится хорошо, исчезает.
"Корнеюшка" всё знает. Ведь бывший муж нынешней жены поэта Зинаиды Николаевны всемирно известный пианист, крупнейший музыкант современности Генрих Густавович Нейгауз — один из самых близких друзей Пастернака. Когда она ушла к Пастернаку, Нейгауз писал ей отчаянные письма, ежедневно или через день, на 10-12 страницах.
Совсем недавно в интернете, этом "мусорном" ящике планеты, я имею в виду слово "мусор" от слова на иврите "мосер", вошедшего в русский криминальный лексикон и означающего — "осведомитель, передающий", появился, как ныне говорят, "фейк". Звучит он так:
"Нейгауз много лет дружил с поэтом Борисом Пастернаком. Когда любвеобильный Пастернак увел у Нейгауза жену, тот в ярости ударил неверного друга по голове тем, что под руку попалось, а под руку ему попался толстенный клавир оперы Мейербера "Гугеноты". Пастернак, пошатнувшись, закрыл голову руками, а насмерть перепугавшись за поэта, которого он считал гениальным, Нейгауз в ужасе бросился к нему с криком: "Борис, прости! Я не хотел повредить твою замечательную голову!"
От этого текста несет немыслимой, невыносимой пошлятиной.
Недавно в интернете опубликовано впервые одно из писем Нейгауза к бывшей жене, ушедшей к Пастернаку:
"Зинуша, Зиночка, моя единственная, любимая! Сколько слез радости и горя я пролил, читая Твое письмо, и что предчувствовал — не описать Тебе этого моими бедными беспомощными словами… И какой я Тебя знаю, какой Ты живешь и всегда будешь жить в самом тайном уголке моего сердца. И опять, как сотни раз, я уже почувствовал: куда бы нас не завёл случай, темперамент, бес или бог, как бы не расходились временно наши пути, — но связаны мы с Тобой неразлучно, наши корни переплелись, и никаким силам не отнять нас друг у друга… Я так мучительно ждал Твоего письма. Борис ничего не привез, хотя я понял это, но было тяжело, страшно. Я еще никогда не мучился так, плакал ночи напролет… Я впервые испытал такие страдания… Борис был у меня… Мы долго говорили. Было и мучительно больно и минутами хорошо, когда моя боль побеждалась чувствами любви и близости к нему — человеку-поэту — Пастернаку. Я ему сказал (кратко), как мне трудно достается пресловутое "великодушие", и как особенно страшны бывают те минуты, когда кажется, что Ты, моя Татьяна, перестала ею быть, превратилась в Ольгу, и что друг оказался предателем, и просто взял то, что я некрепко держал… Зинуша, вот Ты пишешь мне, что хотела бы потом когда-нибудь вернуться, приму ли я Тебя?.. Не то страшно, что я не захочу быть с Тобой, когда ты этого захочешь. Этого случайно быть не может, я с Тобой связан до смерти, но это страшно… Я всегда вам с Борисом мешал. Ты еще не знаешь моей "диалектики" любви к нему, и говоришь о своем будущем возвращении. А как далеко и надолго Ты уйдешь… Тут мой страх, тут ужас и боль… если я от этого не погибну, то только потому, что существует еще искусство, красота и творчество, и они питаются страданием, как мы питаемся хлебом повседневным… Помни, Дуся, не могу я свою душу от Тебя оторвать, и потому, если можешь, если не слишком трудно, уменьши меру страданий моих…"
Пастернак же, под стать Нейгаузу, страдающий недержанием речи, все же, умел молчать, как закупоренная бутылка, еще не брошенная в море с криком: SOS. При встрече плакали оба. Вообще великому поэту и великому пианисту по жизни полагается быть немного неврастениками. Один шаг отделяет у них вспышку безумной любви от полнейшего равнодушия к предмету обожания и от внутренней опустошенности. Внезапно Пастернак увидел несостоятельность всей своей жизни. Его охватил страх. Он побежал к Нейгаузам. Генрих открыл ему дверь и ушел. В полной панике Пастернак вбежал в детскую, увидел пузырек с йодом и залпом выпил все содержимое пузырька. Появилась Зинаида Николаевна: "Что с тобой? Почему так сильно пахнет йодом?" Соседом по дому был врач, заставил Пастернака выпить два литра молока, чтобы вызвать рвоту. Жизнь его была спасена. Это был приступ безнадежности, никчемности жизни. Еще миг, и он бы потерял сознание, щупал пульс, который исчез. Его охватило блаженство. Оказывается, оно существует — блаженство умирания, которое хоть один раз ощущает в жизни каждый мужчина. Затем вздох облегчения: кажется, пронесло. "Если бы был у меня револьвер, — впоследствии вспоминал Пастернак, — я бы потянулся к нему, как к сладкому". Нейгауз же, охладев к Зинаиде, спросил ее: "Ну что, довольна? Он доказал свою любовь к тебе?"
Читайте в тему:
Судьба была к Пастернаку благосклонна в тридцатые годы Большого террора, нарастающего свирепыми кровавыми "русскими революциями", по сути, "бунтами, бессмысленными и беспощадными" с "незабываемого 1917 года", столетние юбилеи которых мы отмечаем в сегодняшние дни. Его обошла и не свела с ума пустая сума и не ждала тюрьма, и не потрясла падением трехсотлетняя монархия, развалившаяся в три дня.
При всем своем внешне по-юношески мужественном виде, Пастернак был внутренне не уверен в себе, противоречив, непоследователен, и часто по ребячливости, беспомощен.
В двадцатилетнем возрасте он был рассеян и углублен — натыкался на тумбы. Душа искала влюбленности, и потому совершала глупости.
Он подвизался помогать готовить уроки по математике и литературе Иде Высоцкой, дочери знаменитого богача Давида Высоцкого, снабжавшего Россию чаем. Это уже превратилось в поговорку: чай Высоцкого, сахар Бродского. Еще в четырнадцатилетнем возрасте Пастернак знал о своем чувстве к ней, Иде Высоцкой. Но воспитанный в уважении к женскому полу и сдержанности, он боялся хоть чем-нибудь выдать свое чувство.
В Марбург — германскую Мекку философов неокантианцев, он приехал послушать в течение семестра лекции обожаемого им Германа Коэна. Пастернаку было 25 с половиной лет. Он, как сомнамбула, не знающая, на каком он свете, все время подтягивал падающие брюки, и был ужасно жалок. В голове вертелось единственное слово — отказ. В Марбург, без ведома родителей, приехали сестры Высоцкие. Он только что объяснился в любви Иде Высоцкой, жених которой погиб в Первую мировую. Пастернак был отвергнут.
Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней!..
Маяковский любил к месту и не к месту повторять строки из этого стихотворения Пастернака — "Марбург":
В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.
Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша) — этот вихрь духоты…
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.
Так в первый раз обретают опыт жизни, пребывают в полнейшей растерянности, которая как бы сама собой переходит в скрытое, более того, безотчетное чувство мести. И это остается, как шрам на всю жизнь, если все же одолеешь соблазн самоубийства. Первой мыслью после полученного отказа было — покончить собой. Совсем скоро примеры не заставят себя ждать. Ему суждено пережить смерть Есенина, с которым их разделяла взаимная, приведшая к драке, неприязнь, а порой и откровенная ненависть. Но он искренне оплакивал его, узнав, что тот повесился. Он, оцепенев, рыдал до потери дыхания над гробом Маяковского, когда тот застрелился. Вообще, чувствительность его зашкаливала, и часто глаза его были на мокром месте. И это притом, что человек он был весьма замкнутый, печально отдающий себе отчет в своем положении, будучи евреем, сыном Пастернаков. Отец его получил при рождении имя — Аврум Ицхок Лейб. Поменял имя и отчество на Исаака Иосифовича, затем — на Леонида Осиповича. Мать Райца (Роза) Срулевна стала Розалией Исидоровной. Сын отлично понимал, в какое время живет, почему они пошли на такой шаг, поменяв свои имена, и чего еще можно ожидать. Он вел себя осторожно в это истинно острожное время. Именно, поэтому он чуть ли не впал в прострацию, прослушав из уст Осипа Мандельштама, стихотворение "Мы живем, под собою не чуя страны", как подписанный автором самому себе смертный приговор. И в исступлении вырвалось то, что скрывалось от самого себя. Он ворвался в квартиру Осипа, поразив жену Мандельштама Надежду выкриком — "Он же еврей".
Двоюродная сестра Пастернака Ольга Фрейденберг, явно неравнодушная к Борису, и, тем не менее изводившая его надуманными капризами, узнав о его любовном фиаско в Марбурге, и о его страданиях, назвала это приступом тщеславной скромности. О том времени она говорила: "По всем городам длиннотелой России прошли моровой язвой моральные и умственные погромы… Группы студентов снуют, роются в трудах профессоров-евреев…Инсульты и инфаркты…По радио каждый вечер передавали отчеты со сфальсифицированных жутких процессов, а за ними следовали веселые народные танцы — камаринская или гопак… Моя душа так никогда и не оправилась от травмы похоронного звона кремлевских колоколов, отбивающих полночь. У нас радио не было, но у соседа оно было включено на полную громкость, било по мозгам и по костям. Полуночные колокола звучали особенно зловеще, когда следовали за ужасными словами "Приговор приведен в исполнение".
Борису она писала: "Никакие годы не сделают тебя стариком, потому что то, что называется твоим именем, не стареет… Ты человек не потока, а перебоев. Греки были мудрецы: они учили, что без интервалов не было бы музыки и ритма". Время их жизни она называла временем "стерильности и бесплодия". О себе говорила: "Я мщу себе тем, что ничего не забываю". Именно, такое чувство мести, от которого, оказывается, невозможно избавиться — так оно врастает в подсознание — пронес Борис Пастернак через все годы жизни, обернувшееся, то ли местью, то ли и вправду любовью к жене Нейгауза, в которой он клялся в первую очередь самому себе, уведя жену у лучшего своего друга. В 1923 Пастернак написал поэму "Высокая болезнь", в финале которой возникает Ленин. Им, в несвойственном ему порыве смелости, Пастернак так завершает поэму:
Тогда его увидев въяве,
Я думал, думал без конца
Об авторстве его и праве
Дерзать от первого лица.
Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.
Это был страх, приобретенный или вызванный откровенно воспитываемой ненавистью к ближнему, боязнью оговориться, десятилетиями длящейся эпидемией доносительства.

Именно, поэтому в моей жизни заучивание стихов было непростой блажью и юношеским максимализмом, а неутолимой и, вероятно, недостижимой, временами почти наркотической жаждой сопротивления всеобщей торжествующей лжи, тягой жить и дышать в поэтической стихии. И открытый мной Пастернак захватил меня, как говорится, с потрохами.
В раннем его творчестве, особенно, в больших патриотических поэмах, как "Лейтенант Шмидт" и "1905 год", ощущалась тяжелая поступь насыщенных метафорами — развернутых поэтических описаний природы и чувств, ощутима была тяжеловесность строк, словно каждый миг рвущихся перейти в прозу. И, наоборот, его проза рвалась ощутить легкость, парение стихотворных строк. Подкупало его стремление открыть ту поэзию, которую ревностно скрывают ее творцы — природа и дух. Это не просто подслушивание, попахивающее заушательством. Это открытие тайны той чуткости души индивида, делающего его поэтом, художником, музыкантом.
Многие годы "Охранная грамота" Бориса Пастернака была моей настольной книгой. Вначале казалось, опять же, что такая перенасыщенность образностью, метафорами, может вызвать оскомину. Но при первом же прочтении, я утонул в стихии его описаний, как существо, буквально засасываемое этим густо текущим миром.
Позднее, я открыл, откуда возникло это название — "Охранная грамота". Пастернак одно время работал в Комиссии по охране культурных ценностей — художественных коллекций, музеев, библиотек. Для Пастернака охранная грамота стала метафорой — охраной его внутреннего мира от покушений внешнего — власти, зависти цеховой. Буквально же, охранная грамота была слабой панацеей в годы, когда революционные матросы, на которых нет управы, ворвались в больницу и расстреляли двух министров Временного правительства, депутатов Учредительного собрания. Это уже был разнузданный террор.
Особенно старались завистливые коллеги по перу. Только представить, что было сказано и написано "преданным" членом партии Валентином Катаевым в годы жестокого преследования Пастернака, вызванного его романом "Доктор Живаго": "Вы воображаете, что он жертва. Будьте покойны: он имеет чудесную квартиру, и дачу, богач, живет себе припеваючи, получает большой доход от своих книг". Как говорится, Катаев, своей среде знакомый, как "старик Саббакин", по-доброму завидовал, по-соседски. Во всей этой затаенной и открытой зависти-ненависти к Пастернаку проскальзывали нотки антисемитизма в намеках на его "нерусскую поэтику".
Пастернак родился 10 февраля 1890 года. Насколько Мандельштам, который родился в 1891, был взрослее и с удивительно потрясающей для его возраста прозорливостью оценил Февральскую и Октябрьскую революции, в отличие от Пастернака.
Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы,
И ощетинился убийца-броневик,
И пулеметчик низколобый…
И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые —
Благословить тебя в глубокий ад сойдет
Стопою легкою Россия.
Стихотворение написано Мандельштамом в ноябре 1917 года.
Неимоверно жестокое время выковывает гениев. Пастернак интимен, Мандельштам глобален, Цветаева категорична, Ахматова онемела в своем горе.
…Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад,
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград…
К Пастернаку же, памятуя его революционные поэмы и, вообще, проявляемую лояльность, пришли со списком писателей, подписавших петицию в поддержку смертного приговора ведущим чинам Красной армии. Первым в списке стояло имя маршала Тухачевского. В июне 1937 человечек со списком приехал к Пастернаку в Переделкино за подписью. Пастернак выставил его с криком: "Я ничего не знаю о них. Не я дал им жизнь, и не имею права прав отнимать у них жизнь".
Бездарный писака, но зато председатель Союза советских писателей, Ставский угрожал Пастернаку. Беременная Зинаида Николаевна валялась у него в ногах, умоляя поставить подпись. Он ей ответил, мол, написал письмо Сталину о том, что воспитан на толстовских убеждениях и не считает себя уполномоченным быть судьей чьей-то жизни и смерти.
Он говорил: "В те ужасные кровавые годы арестовать могли кого угодно. Нас тасовали, как колоду карт".
Петиция была напечатана в "Правде". Среди подписей, без согласия Пастернака, была поставлена его подпись. Он рвал и метал. Собирался куда-то звонить, бежать. И опять жена умоляла его не искушать Бога. Ведь это верная гибель. Но, так или иначе, никто не был застрахован, ибо не было никакой логики в действиях верховного диктатора. "Почему, например, Сталин пощадил Пастернака, который гнул свою независимую линию, — писал Эренбург, — но погубил Михаила Кольцова, который честно выполнял порученные ему задания?"
В то страшное время Пастернак писал: "…Всё замкнулось на мне, и моя попытка идти в ногу с веком превратилась в свою противоположность, которую я не скрывал. Я нашел убежище в переводах. Мое собственное творчество подошло к концу".
Своими проявлениями непокорства Пастернак шел на большой риск.
В начале 1937 года Бухарина поместили под домашний арест. Пастернак послал записку в его кремлевскую квартиру, не сомневаясь, что ее прочтут "гепеуры", как называл сотрудников ГПУ Михаил Булгаков в знаменитой своей повести "Роковые яйца". Пастернак написал Бухарину — "Никакие силы не убедят меня в том, что вы предатель". Бухарин, фактически приговоренный к смерти, прослезился и сказал: "Он написал это против себя самого".
В 1937 году поэта и переводчика Бенедикта Лившица расстреляли, как "врага народа". В список по его делу включили Пастернака, что делало его возможным кандидатом на арест.
Марина Цветаева, увлекаясь кем-то, вела платонические романы в письмах. Так было с выдающимся немецким поэтом Райнером Мария Рильке. Так было с Осипом Мандельштамом. И тут, в 1922 году выходит книга стихов Пастернака "Сестра моя — жизнь", воистину ставшая событием в мире поэзии.
"Я попала, — пишет Цветаева, — под ливень. Пастернак это сплошное настежь: глаза, ноздри, губы, руки…"
Она была натурой увлекающейся, но предельно честной. Она могла попадать под влияние, но никогда не позволяла себе виляние. А тут происходит такое: Пастернак едет в 1935 году с официальной делегацией в Париж на международный писательский съезд. В Париже живут его родители, которых он не видел двенадцать лет. В октябре он пишет Цветаевой. Ему плохо.
"Это" продолжалось около пяти месяцев…"
"Это", взятое в кавычки, означает, что… "не видав своих стариков двенадцать лет, я проехал, не повидав их. Вернувшись, я отказался поехать к Горькому, у которого гостили Роллан с Майей (жена — Майя Кудашева), несмотря на их настояния… Непонимание, естественно, я встретил и со стороны родителей: они моим не приездом потрясены, и перестали писать мне… "
Марина жестко его отчитала и чуть не порвала с ним всяческие отношения. Он жаловался: ни одной здоровой ночи. Одолела бессонница. Он все не мог забыть, как ходил взад-вперед по соседним от родителей парижским улицам, но так и не решился зайти к ним.
Все же, в Москве, в июле 1941 года, он тщетно уговаривал ее не эвакуироваться в Елабугу, предчувствуя плохой конец. Вместе с молодым поэтом Виктором Боковым, он провожал ее до Северного речного вокзала, умоляя, не уезжать. Он признавался дочери Марины Ариадне Эфрон: "Я для вас писал "1905 год", а для мамы — "Лейтенант Шмидт". Больше в жизни это уже никогда не повторялось".
Парадоксально отношение к иудаизму, Священному Писанию, русской Марины Цветаевой и еврея Бориса Пастернака. У нее, в "Поэме конца" — "Луна огромная — Соломонова ". В отличие от него, которому его еврейство было в тягость, Цветаевой свойственна чисто еврейская жажда — пострадать, видеть нечто возвышенное, высший смысл души — в страдании и унижении, на которые обречен гений.
Сэр Исайя Берлин, всемирно известный философ, историк, дипломат, родился в Риге и в одиннадцатилетнем возрасте уехал с родителями в Англию. В 1945 году он приехал в Питер в качестве сотрудника британского посольства. Познакомился с Анной Ахматовой. И с тех пор это знакомство обросло всяческими легендами. Тут подсуетился "партийный интеллектуал" Андрей Жданов, гордый авторством постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград". Ахматову он называл "полу-монахиней — полу-блудницей". "Интеллектуал" был еще и знатным блюдолизом в компании колченогого корифея, который, услышав от очередного услужливого осведомителя "на полусогнутых" о встрече Анны Ахматовой с Берлиным, воспользовался подсказкой Жданова. С присущей ему грубостью, вождь, с привлечением нецензурных оборотов речи, выразился так" "Оказывается, наша монахиня теперь и английских шпионов принимает…"
По словам Берлина, у Пастернака было "навязчивое желание считаться русским писателем, укорененным в русской почве… Это особенно видно в его негативном отношении к своему еврейскому происхождению. Он хотел, чтобы евреи растворились, как народ". Об этом разглагольствует один из героев романа "Доктор Живаго" Миша Гордон, обращаясь к евреям: "Опомнитесь! Не называйтесь, как раньше… Будьте со всеми… Вы первые и лучшие христиане мира". Пастернак писал отцу: "Ни ты, ни я — мы не евреи".
Исайя Берлин в 1945 году пришел к выводу, что тяга Пастернака к христианству возникла позднее. Уже в пожилом возрасте Пастернак нашел для себя собственную версию христианства. Он говорил:
"Я родился евреем. Мои родители занимались музыкой, живописью, и почти не уделяли внимания религиозной практике. Из-за того, что я испытывал насущную потребность в общении с Создателем, я обратился к православию. Но как я ни старался, я не мог постичь его до конца. Постигаю до сих пор".