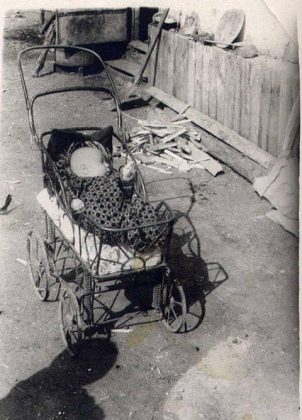Из дневника Котельника разных лет
Нахим ШИФРИН
… А в конце беседы, когда уже иссякли все темы, которые можно обсудить с человеком, который не водит машину, не умеет сложить простые дроби, почти теряет сознание, когда водоточит закрытый кран, они делают хитрое лицо и с чувством первопроходцев спрашивают меня: "А теперь скажите, какой вопрос вы хотели, чтобы задали вам мы?"
Сегодня утром меня вдруг осенило: зачем я убегал от дяди Геселя в летние каникулы, когда он, брат моего отца, преподаватель физики и математики, просто от избытка чувств предлагал мне порешать какие-нибудь задачки? Как получилось, что в семье, где не было ни одного гуманитария, мы с братом сделались дирижёром и артистом? Скольких глупостей я избежал бы, если бы умел логически мыслить, а не сначала поступать, а потом думать?
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Папы и мамы! Радуйтесь тому, что ваши дети рисуют и поют, и с выражением рассказывают стихотворения, но начинайте тревожиться, когда заметите, что учебник по арифметике остается у них с неразрезанными страницами.
Знайте, что в лучшем случае ваши дети станут журналистами! А это едва ли лучший удел, чем быть артистами: плакать из-за ерунды, метаться, когда вылетят пробки или спешить на передачи, которые приличному человеку даже не подобает смотреть.
Я сегодня задал себе страшный вопрос: ну, почему, почему я стал гуманитарием?
* * *
У нас когда дело доходит до разочарований — а разочаровАлись нынче уже во всех, с кем вчера только топали в ногу — по бульварам ли, или проспектам некогда шумной Москвы, или в тех, чьих, немножко спёртых от несвободы, эфиров ждали как спасительных сквозняков в непроветренном помещении — так вот, когда дело доходит до разочарований, самый веский довод у держащих невинную мину — всегда: "я это знала", "она всегда такой была".
Блин, если "была", на хрена было с ней водиться? Откуда эта вечная вчерашним числом прозорливость?
Не очаровывайтесь вы, не солидаризуйтесь тогда со всеми, в ком вы уже сегодня так безошибочно угадываете завтрашнего врага!
Как удивительна ваша пионерская доверчивость и девичья переменчивость!
Душечки. Чехова вам в руки и собрание сочинений Владимира Ильича…
* * *
Совершенно жуткая дрёма. О том, как поздней ночью я ввалился в дом, которым на этот раз стала вариация прежней измайловской квартиры в глубоком синем решении, и, заснув там, внутри уже снящегося мне сна, вспомнил, что оставил где-то чёрную сумку с двумя телефонами и айпадом. Я мог забыть её либо в машине подвозившего меня частника, про которого мне запомнилась только его говорливость, либо в людном павильоне на съемках.
Я понял, что страшнее кошмара в моей жизни не было, поскольку шансов найти водителя, а уж тем более сумку, оставленную в неизвестной мне студии, забитой участниками новогодней массовки, у меня не было.
Пробуждение в поту последовало тоже в границах сна: я знал, что обрести уверенность, что телефоны лежат, как обычно, на прикроватной тумбочке, а сумка валяется в кресле, мне поможет только резкое вставание с постели. К ужасу моему, ни телефонов, ни зарядки на месте опять не оказалось.
Мне понадобилось какое-то недюжинное усилие, чтобы в третий раз, уже наяву, продрать глаза и обнаружить себя в уютном номере тихого уральского города. Телефоны набирались сил на предстоящую мне днём дорогу, а айпад, вспыхнул как раз на страничке Фейсбука, где я в последний раз, буквально пятнадцать минут назад, выходил на связь со своими вечно бдящими слушателями.
* * *
… И никто не призывает сесть за книжки, восполнить пробелы в образовании, наверстать упущенное: дослушать, дочитать, досмотреть, поправить поправимое, позвонить родителям, наконец… Все призывают молиться. В этом есть что-то апокалиптическое. Кажется, что за этой истошностью и впрямь таится конец всему: приличному образованию, воспитанию, всякой светскости, надежде на открытия, на достижения медицины.
Есть подозрения, что, выскочив из проруби, многие уже хотят согреться у костра, в который сначала полетят книжки, а затем только вязанки хвороста, чтобы святая простота опять обнаружила свою вселенскую отзывчивость…
* * *
Никогда не дрался. Ну, то есть, как не дрался? В школе однажды меня очень обидел одноклассник, и мы сошлись после уроков на географической площадке в борьбе — без особых приёмов, просто я — с неистовством оскорбленного, а он — с ухмылочкой Яковлева из "Сильвио", когда тот во время дуэли выплёвывал вишнёвые косточки. Помню свой победный жест: мои коленки на распростертых руках побеждённого.
Потребность улаживать конфликты именно таким образом у меня улетучилась тогда же, после первой и последней в жизни драки.
Но в своём серьезном возрасте я дважды едва удержался от реального желания вмазать двум своим младшим коллегам, парнишкам гораздо моложе меня.
Две истерички в мужском обличье: одна знаменитая, другая известная в узких кругах, в разное время как-то резко перешли границу формальной вежливости, и оба раза я лишь остановился на вспыхнувшей в моей голове картинке, где я распластываю свою пятерню по лицам каждого из них, а потом брезгливо оттираю грим, оставшийся от встречи с их наглыми рожами.
О, в гневе я страшен! Оба раза я был неповторим в своём воображаемом мщении…
Моя рассудочность победила каждый из этих припадков. И я, конечно же, и впредь никогда не позволю себе ударить кого-то из коллег.
Сейчас, на ночь глядя, я впервые подумал: меня бы, наверное, как-то наказали за это рукоприкладство: сначала в какой-нибудь хронике под громким заголовком, а потом, возможно, и в зале суда, где я бы точно не вынес стыда — в казенном учреждении, во время объявления приговора.
Даже не знаю, что полагается за такие поступки — 15 суток, что ли? Или какой-нибудь штраф? Или вот ещё — моральное осуждение.
А с другой стороны, я ведь ни с какой стороны не обязан был поступать по-христиански. А вот они как раз должны. Должны были бы подставить мне после удара еще раз свои щёки.
С этими ребятами меня познакомила вовсе не ревность к успеху, который они по праву и должны были отнять у тех, кого воспитала суровая табуированность советской эстрады. Меня познакомила с ними даже не зависть к их сценической смелости — я стал смотреть ролики с российскими стендаперами только потому, что хотел выяснить для себя: нынешний стендап — это продолжение того жанра, в котором подвизались несколько поколений наших юмористов, или его вариация, или, возможно, это какой-то прорыв в другую, похожую на нашу, но всё же — смежную область?
Теперь, после знакомства с ними, мне кажется, что они всё же трудятся совсем на другом поле — там меньше актёрской работы и много актуального и молодёжного контента, там — почти то же, что отличает музыку радио "Орфей" от рэпа, который уже вполне органично звучит по-русски: совершенно новый язык и почти полное отсутствие какой-либо мелодии.
Мы всё же учились на артистов и с разной степенью успеха пытались изображать людей или без удовольствия цепляли на себя эстрадную маску.
У них человеческие образы возникают штрихами, яркими набросками в ходе — как ни крути — публицистического, несомненно комического или даже сатирического, высказывания. Их диалог со зрителем гораздо доверительнее, намного теснее. Но ведь у них же и совсем другой зритель…
Меня, конечно, немного смущает отсутствие флажков на их дерзкой лыжне, и я не могу отделаться от ощущения, что в силу возраста своего мне интереснее слушать их в интервью, чем суметь рассмеяться, наблюдая их работу на сцене.
"А я такой говорю, а она такая отвечает". Мне будет уже трудно согласиться на "такой" упрощенный словарь, пока живы еще те, кто застали меня, когда я читал с эстрады рассказы Булгакова или Зощенко.
Как хорошо, что свято место не бывает пустым.
И даже неважно, приобрело или потеряло оно от них в своей сомнительной святости…
* * *
Ждать хуже, чем догонять. У меня не хватает дыхалки ждать. Как это вообще можно сравнивать? Я догоню любую хорошую новость, если буду знать, куда бежать за ней. Но я теряю дыхание, когда мне напоминают про три положенных года, чтобы выйти встречать эту дуру на порог. Сколько мне еще осталось три по три по три, чтобы ждать, ждать и ждать… и захлёбываться свовсем не терпеливым терпением?
Скажите, куда бежать, и я истрачу последние запасы в лёгких, чтобы догнать одну стоящую роль, спокойствие за своих близких, мир между двумя ближайшими соседями.
Три года — это очень много в моем возрасте.
Я внимательно заглядывал в глаза, намекавшие мне на то, что судьбу надо брать в свои руки: сочинять самому тексты, рожать детей из пробирок в собственной морозилке, звонить Спилбергу или молиться Богу, которого замучили цитатами, как покойную Раневскую, не вручавшую никому даже четверти скрижалей, затасканных её бесстыжими моисеями. У этих терпеливых даже не дрожат веки, когда они советуют мне эту чушь.
Лучше всего не встречаться с этими бодряками посреди ненастного дня: они врут подлее, чем метеорологи, которые в самую гнусную хлябь обещают солнце веселыми смайликами, именно тогда, когда я хочу видеть его выкатившимся изнутри — от самой первой доброй новости, которую я, бля буду, догоню, пока вы советуете мне её дождаться…
* * *
Под утро затекла рука, и я, в полусне, бесстрашно допуская, что проснусь одноруким, начал лихорадочно соображать, что нужно сделать, чтобы как можно искуснее скрывать своё увечье от окружающих.
Во-первых, от мамы. Я представил себе неудобство утренних облачений в халат или рубашку с длинными рукавами, но зато придумал, что новую причуду есть левой рукой маме можно объяснить необходимостью переучиться для некоей роли. (Мамы уже давно нет на свете, но сценарист моих дурацких сновидений, по-видимому, круглосуточно обретается в Интернете и не в курсе, что я уже много лет сирота).
Потом появилась художница по костюмам Светлана, реальный автор всех моих эксцентричных прикидов, с которой и во сне пришлось спорить и даже кричать, гася её дизайнерский пыл. Она убеждала меня, что скрыть мою тайну будет просто, и, как всегда, роняла пепел от сигареты на ковер. Но черт с ним, с ковром! Света объявила, что рукава теперь будут с какими-то пуфами, и я с ужасом представил себя на ветру новых блогерских осуждений.
И тут я понял, что Светино предложение — неспроста, и у меня есть шанс проснуться вовсе безруким. Я бросился к окну, еще не отряхнувшись от сна, и посмотрел вниз, уже медленно понимая, что во дворе не может быть никаких журналистов. На спортивной площадке, правда, сидело несколько ворон, но в бодром состоянии я не разрешаю себе верить в сказки о переселении душ. Шпиль моей высотки в Котельниках, упершись в чистое небо, напомнил мне о стойкости, и я, даже не включив компьютер, набросал будущий пост на очередной шифровке от Мосэнерго.