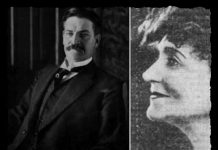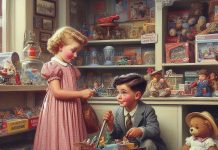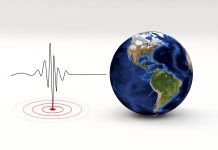Вспоминая летописца Кашгарки
Геннадий ПЛЕТИНСКИЙ
В юности испытал потрясение, прочитав в научно-популярном издании про самый далекий объект, который человек видит невооруженным глазом – галактику в созвездии Андромеды. При идеальных условиях наблюдения это тусклое пятнышко хорошо различимо и не вызывает особых эмоций, пока не узнаешь: глядя на него, ловишь зрачком фотоны, испущенные более чем 2,5 миллиона лет назад. А астрономический объект, бывший их источником, скорее всего в настоящее время уже не существует или выглядит совсем иначе.
Разум человеческий не в силах воспринять эти космические масштабы – ведь и по земным меркам нам трудно осознать изменения, происходящие в краях, которые мы покинули много лет назад. В ностальгических воспоминаниях эти места и близкие люди из прошлого воспроизводятся такими, какими они запомнились нам в прошлом. И тут самое время вспомнить пронзительные шпаликовские строки:
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
в прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне…
Предлагаем вниманию читателей фрагменты из повести Владислава Поплавского "Кашгарка" (в газетном варианте):
Особо остро воспринимаются вести об уходе в вечность людей, которых хорошо знал и высоко ценил. Так десятилетие назад из публикации в "Звезде Востока" (литературно-художественный журнал Союза писателей Узбекистана, выходящий на русском языке) узнал, что еще в 2006-м ушел из жизни ташкентский литератор Владислав Поплавский. Прочел об этом в краткой аннотации о нем, приуроченной к публикации в этом издании отрывков из его повести "Кашгарка".

Хотя мы оба родились и выросли в одном городе (и даже, как выяснилось, одно время были соседями), со Славой я познакомился в Голодной степи, куда в начале 70-х годов прошлого века был распределен после окончания университета и где начал работать в областной газете. Поплавский к тому времени уже несколько лет преподавал русскую и зарубежную литературу в Сырдарьинском госпединституте имени Гафура Гуляма (ныне – Гулистанский государственный университет). Он был кумиром тамошних студентов, на его лекции приходили и учащиеся других факультетов и отделений – просто чтобы послушать. Он трудился над кандидатской диссертацией, много писал, публикуя в областной газете, республиканских и центральных изданиях свои литературные и публицистические произведения.
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Слыл (и был) замечательным рассказчиком. Поведанные им на дружеских посиделках истории о том, как на экзаменах и зачетах студенты из отдаленных от цивилизации кишлаков и аулов пересказывают "Жизнь двенадцати Цезарей" Светония или "Метаморфозы" Апулея помню и полвека спустя.
Славе многие (в том числе и автор этих строк) говорили: "Записывай это, публикуй!" Но он разводил руками – мол, нет времени, да и кому это надо!? Только после его кончины выяснилось: кое-что из тех своих устных рассказов он все-таки записал. И хорошо, что родные и близкие смогли подготовить часть оставшихся после него рукописей к печати.
Из-за того, что Славу, как говорили в ту пору, "заложил органам" человек из его окружения (к сожалению, наш соплеменник), Поплавского уволили из института "с волчьим билетом" – вернуться к преподаванию и диссертации он смог только несколько лет спустя. Читал лекции в своем "alma mater" – Республиканском пединституте русского языка и литературы, окончил аспирантуру в Москве, опубликовал около сотни работ. Как сообщается в журнальной заметке, вел большую общественную работу: являлся членом ташкентского ЕОЦ (Еврейского общинного центра), руководил клубом "Радуга", издавал журнал «Литературный вестник».
Основным местом его работы стал журнал "В одном строю" ("Бир сафда"), учредитель и издатель которого – Общество слепых Узбекистана. Это издание, выходящее в четырех вариантах (на русском и узбекском языках, шрифтом Брайля для слепых и плоским укрупнённым шрифтом для слабовидящих), было прибежищем многих опальных журналистов и писателей. Тираж журнала, выходящего вот уже более шестидесяти лет, достигал 12 тысяч экземпляров, он распространялся не только в Узбекистане, но и в других республиках СССР, и за рубежом.
Слава много ездил по командировкам, его устные повествования о жизни незрячих, их производственной деятельности, быте и своеобразном юморе запоминались. Как-то, вернувшись из поездки в один из древних городов, он зашел ко мне в Дом печати на этаж, где располагались корпункты центральных газет. На пиалу чая заглянули несколько коллег, и в беседе Поплавский рассказал, как его разыграли в тамошнем областном отделении Общество слепых, где он брал интервью для журнала. Всем нам была хорошо знакома главная сложность таких командировок: это порой избыточное гостеприимство хозяев. Обычно они стремились начать общение с застолья – мол, дела никуда не убегут, а для начала выпьем по пиале-другой чая. Что, как правило, превращалось в обильное пиршество и затягивалось иногда на несколько дней – как писали классики, "согласно законам восточного гостеприимства". И было важно убедить хозяев сначала заняться делом, поскольку был риск, что застолье продлится до конца командировки, а нужные данные придётся потом добывать по телефону.
Славе в той поездке не удалось уговорить слепых и слабовидящих руководителей областного отделения сначала завершить деловую часть визита – уж очень они настаивали. Сдавшись, он вышел с хозяевами во двор здания бывшей мечети, где располагалось правление. Сели в черную "Волгу", гостя усадили на переднее сидение. За рулем был мужчина, при взгляде на которого Слава обомлел: это был несомненный слепой, о чем свидетельствовали пустые глазницы. Но никто из сидевших в автомобиле и ухом не повел. А незрячий водитель уверенно завел мотор, передернул ручку газа и с места в карьер повел "Волгу" в сторону заполненного водой большого хауза (искусственного водоема типа бассейна). Слава невольно закричал и вцепился руками в сиденье. Не доехав с метр до хауза, слепой резко затормозил, "Волга" остановилась на самом краю невысокого бортика вокруг водоема. Перепуганный пассажир едва перевел дыхание, а на заднем сидении довольно хохотали – оказалось, это у них был такой отработанный годами розыгрыш, своеобразная "проверка на вшивость"…
Не знаю, записал ли Поплавский эту историю или она так и осталась одним из многих его устных повествований, канувших в вечность вместе с автором. Больше повезло циклу его рассказов, превратившихся в совокупности в повесть об исчезнувшем после землетрясения 1966 года легендарном районе Ташкента, который дал название этому произведению – "Кашгарка". Из-за обилия проживавших здесь ашкеназских евреев в неофициальной топонимике города это место нередко называли "Хаимштрассе" – безо всякого антисемитского подтекста: в многонациональном городе его жители зачастую обозначали районы не согласно административно-территориальному делению, а по компактно проживающему там этносу: Армянский городок, Греческий городок, Болгарские огороды, корейский Куйлюк, бухарско-еврейский Гузари-джувут… Эти топонимы и ныне всплывают в воспоминаниях, а чаще всего в них фигурирует именно Кашгарка как самый колоритный уголок старого Ташкента, хотя на месте, где она находилась, уже более полувека высятся современные кварталы.
В 2016 году исполнилось пятьдесят лет со дня ташкентского землетрясения, и в нашей газете был опубликован материал "Последние дни Кашгарки", повествующий об этом "местечке в черте города". Перепечатанные затем несколькими популярными сайтами, этот текст побил рекорды по откликам – как по количеству, так и по географии: на него отреагировали многие бывшие ташкентцы, живущие ныне по всему миру, от Канады до Новой Зеландии.
Так что вполне уместно будет сравнить и саму Кашгарку с далекой звездой, свет от которой доходит до нас даже через много лет после ее исчезновения…
[nn]