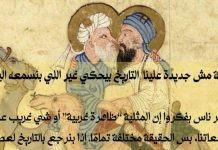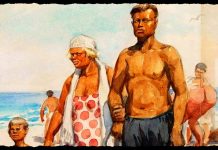Как вообще жили люди, каждую ночь прислушиваясь к звуку шагов на лестнице и стуку в дверь – свою или соседа?
Лидия Гинзбург так написала об этом времени своей молодости:
«Тридцатые – коллективизация, украинский голод, процессы, 1937-й – и притом вовсе не подавленность, но возбужденность, патетика, желание участвовать и прославлять».
А вот каковы первые впечатления Ариадны Эфрон от Москвы 1937 года: «Вот уже четыре месяца, как я живу и работаю в Москве. Эти четыре месяца научили меня большему, чем годы, проведенные мной за границами Советского Союза. <…> На моих глазах Москва встречала полярников, шла навстречу детям героической Испании, принимала трудовой первомайский и физкультурный молодежный парады. На моих глазах Москва наградила участников строительства канала Москва-Волга. На моих глазах Москва расправилась с изменой.
Великая Москва, сердце великой страны! <…> Как я счастлива, что я здесь! <…> В моих руках мой сегодняшний день. В моих руках – мое завтра и еще много-много-много, бесконечно много радостных “завтра”».
Читайте в тему:
Восторженное и наивное отношение Али будет разрушаться действительностью постепенно – арестом, заключением, ссылкой… Пока же энтузиазм строительства нового общества заслонял все. Созданные в те годы фильмы «Веселые ребята», «Чапаев», «Цирк», «Семеро смелых» до сих пор захватывают обаянием «великой иллюзии». А ведь мы уже вроде бы «всё» знаем о той эпохе!
Разумеется, подход к жизни Бабеля, умудренного советским опытом человека, несопоставим с восприятием юной парижанки. Уж ему-то изнанка тридцатых известна хорошо.
Однако… Слушаю песни Утесова двадцатых и тридцатых, пропитанные иным духом. Нет в них и тени бравурного оптимизма, ничто «не кипит и не пенится». Томные звуки танго, зажигательный фокстрот, наивная полька. «Мир, увиденный глазами человека». Уютный и непритязательный, в котором есть любовь, женщины, таинственный свет луны, аромат цветущих магнолий, ласковый плеск моря, терпкость хорошего вина. В голосе певца добрая усмешка, в которой столько любви и сочувствия к Маньке и Мурке, к Гопу-со-смыком, к джаз-болельщику, к «водителю кобылы». Каким противоядием рабским картинам строительства Беломорканала, бряцающему языку газетных передовиц, ночным «черным марусям» звучит песня о сердце, которому «не хочется покоя»…
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
В главе «Бабель и Каширина» я писала о том, что знакомство с Утесовым началось еще в середине двадцатых. Приятельские отношения продолжались и в тридцатые. Бабель вместе с А.Н.Пирожковой приехал на съемки «Веселых ребят» в Абхазию, к «Ледику» (домашнее имя Утесова), потом они пересеклись на похоронах «своих» одесситов: Ильфа и Багрицкого. Мечтали вернуться жить в Одессу. Это были НЕ просто «разговоры». Чуть позже расскажу, как близко от осуществления этой мечты Бабель оказался в конце жизни.
Семейные письма родным позднего Бабеля чем-то напоминают домашнюю – «одесскую» – интонацию утесовских баллад. За шуткой и усмешкой кроется что-то прочное, сущностное, независимое от политических реалий и неподвластное им. Описание нового бабелевского быта, намного теперь более устроенного и налаженного, перемежается перечислением рабочих планов и текущих дел, отчетами о курсах лечения или размышлениями над природными явлениями (11.10.1937: «Небо уже дышит осенью, и чем старше я становлюсь, тем более убеждаюсь, что плохая погода – это не та вещь, которой человеку надо покоряться»).
Конечно, его сверхзадачей было сохранить связь с первой семьей, поддержать их и успокоить, что уже с 1936 года становится весьма затруднительно и даже опасно. Однако было бы упрощением считать это единственной причиной. Спокойная, оптимистическая интонация его писем отражала что-то еще, о чем метко и выразительно написала Елена Игнатова: «В воспаленном воздухе конца 1936-го – начала 1937-го было растворено страстное желание жить, заслониться от гибели неведением, работой, суетой, любовными увлечениями и романами, ведь в большинстве своем люди советской элиты были молоды».
Приведенная ниже история, приключившаяся благодаря дружбе с Татьяной Николаевной Тэсс, может пролить свет на одну из «странных» затей Бабеля в разгар арестов и казней – его хлопотах о праве вселения во флигелек на Ближних Мельницах в 1937–1938 годах. Воспользоваться этим «правом» ему так и не довелось…
«ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ МЕСТО, КУДА БЫ ОН МОГ УЙТИ»
Т.Н.Тэсс, как и Бабель, стремилась летом обязательно провести несколько недель в Одессе. К тому же там, на Ближних Мельницах, еще сохранялся ее семейный дом, в котором жила мать Ольга Николаевна Сосюра. В одно из таких посещений – вероятней всего, это было в августе 1936 года – Татьяна познакомила ее с гостившим в городе Бабелем. Он искренне привязался к Ольге Николаевне, вероятно, перенося на нее частичку того сыновнего чувства почтительной нежности и участия, которые всегда питал к старым дамам, тоскуя по матери и по хорошей одесской кухне. Бывая в Одессе, Бабель неизменно навещал О.Н. Их дружбе способствовала ее любовь к книгам, к литературе, искусству и, разумеется, к его творчеству. Но однажды у них возникло одно общее «дело».
Бабель постоянно мечтал приобрести какое-то жилье в окрестностях Одессы, так что сказанное Утесову на похоронах общих друзей родом из Одессы не было минутным зигзагом в его настроении. К весне 1937 года выяснилось, что по соседству с домом О.Н. на Ближних Мельницах должен был освободиться от жильцов уютный флигелек, утопающий в сливовых и вишневых деревьях. О.Н. охотно взяла на себя необходимые хлопоты по передаче флигелька Бабелю.
Т. Тэсс, разбирая после смерти матери ее бумаги, обнаружила три бабелевских письма и телеграмму, посланные Ольге Николаевне на Ближние Мельницы. В одном из них, 25 июля 1937 года, он пишет о возможном вселении в «заветный флигелек» как о «лучезарном будущем». Не стоит думать, что сказано это «для красного словца», чтобы угодить адресату или как-то выразить благодарность за дружескую заботу. Тема флигелька для Бабеля – «сквозной мотив» тех лет. Весной 1938 года О.Н. сообщает ему письмом, что флигелек будет свободен окончательно во второй половине мая. Бабель отвечает телеграммой: «Счастлив возможности быть вашим соседом». В большом письме от 21 июня 1938 года, подробно рассказывая об утеплении наконец полученной литфондовской дачи в Переделкине, он не упускает возможности вернуться и к обсуждению нового пристанища в Одессе: «Сей числящийся за мной флигелек чрезвычайно поднял мой дух. Достоевский говорил когда-то: “Всякий человек должен иметь место, куда бы он мог уйти”, – и от сознания, что такое место у меня появилось, я чувствую себя много уверенней на этой вращающейся земле».
Любопытно, что в цитировании тех слов Достоевского Бабель ошибся – причем именно «по смыслу», и как показательна эта ошибка! У Федора Михайловича говорилось о том, что каждому человеку «надо хоть куда-нибудь пойти» – то есть куда-то, к кому-то, кому он нужен, кто поможет, кто будет хоть как-то рад ему, где бы меньше чувствовалась боль одиночества и покинутости. А у Бабеля – речь идет о месте, где можно, наоборот, спрятаться и укрыться от всего и всех… И то, и другое – очень понятно, но это совсем разные стремления…
Кажется, стремление Бабеля обзавестись недвижимостью в родном городе шло от «страстного желания жить, заслониться от гибели» на свой лад. Заслониться Мечтой, за которую он упрямо держался, – создать место, где сможет объединиться вся его семья… Снова, как при описании матери и сестре литфондовской дачи, кажется, что при этом он, упорный мечтатель, не очень задумывался над тем, как практически можно совместить под одной крышей жизнь по крайней мере двух любящих его женщин и двух столь разных семей – еврейско-европейской и московско-сибирской. В то же время его фантазия так понятна, и так понятно, как в эти страшные годы согревает Бабеля мысль о флигельке-пристанище на окраине Одессы. Согревает и продолжает быть источником его вдохновения.
ОДЕССА БАБЕЛЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И ВЫДУМКА
Бабель и Одесса. Привычное, само собой разумеющееся словосочетание, абсолютно слитое в сознании миллионов читателей. Как интересно, что на самом деле Бабель прожил в Одессе всего два коротких (но очень важных!) периода своей жизни. Первый из них пришелся на отрочество и раннюю юность, с десяти до семнадцати. Дело в том, что хотя он родился в Одессе, но через год с небольшим после рождения (не позднее ноября 1895-го) семья переехала в Николаев и возвратилась обратно в Одессу только в конце 1905-го. Ися был принят в знаменитое Одесское коммерческое училище – ОКУ, и закончил его в 1911 году.
Впечатления этих лет переплавились в цикл рассказов о детстве и отрочестве «История моей голубятни». Кроме того, именно в эти годы будущий писатель прекрасно овладел французским и идишем, неплохо изучил иврит.
После этого он был принят в Киевский коммерческий институт – ККИ, в 1915 году эвакуировался с институтом в Саратов, а с 1916-м переехал в Петербург, поскольку был зачислен студентом в Психоневрологический институт, что предоставило ему тогда еще требовавшийся вид на жительство.
Там и началась его литературная карьера. Про «первую» публикацию в ежемесячном журнале «Летопись», основанном М.Горьким, сам Бабель написал в очерке «Начало». (На самом деле его первой публикацией был рассказ «Старый Шлойме» – в Киеве, в журнале «Огни», в 1913 (№ 6). На протяжении всего 1918 года Бабель регулярно печатал очерки о жизни революционного Петрограда в меньшевистской газете «Новая жизнь», также выпускавшейся М.Горьким.
В Одессу он возвратился в 1919 г, уже приобретя профессиональный литературный опыт, с этого и начинается второй одесский период. Здесь он жил – с родителями, сестрой Мери и женой Женей – с перерывами до лета 1924 года. Отсюда он ушел в мае 1920 года в польский поход Первой конной, сюда он вернулся в ноябре, переболев тифом. Отсюда он уехал с Женей в 1922 года в Грузию и работал несколько месяцев корреспондентом тифлисской газеты «Заря Востока». Повторю еще раз то, о чем я уже рассказывала в главе «Бабель и Каширина», – именно во второй одесский период была написана бОльшая часть «Одесских рассказов» и «Конармии».
Летом 1924 года семья Бабелей переезжает в Москву. Подробно об обстоятельствах переезда написано во второй части этой книги. К тому времени в Москве уже обосновалась большая часть его одесских друзей и литературных знакомых – тех, кто впоследствии составил знаменитую «южнорусскую школу» в советской литературе: Ильф, Катаев, Паустовский, Олеша, Багрицкий.
Важно то, что и после переезда в столицу связь его с Одессой, которую он считает родным городом, отнюдь не прерывается – она просто переходит в иную форму. Каждый год он непременно туда возвращался. Гостил и работал там иногда по нескольку дней, чаще недель. Лечился, участвовал в съемках фильмов по его сценариям на кинофабрике ВУФКУ, писал. А главное – наслаждался Одессой, совсем как в молодости, когда еще были живы родители и он приезжал в студенческие годы на каникулы в родительский дом, откуда ушел в конармейский поход и куда вернулся. В тридцатые годы Бабель уже постоянно упоминает в письмах и в разговорах с друзьями, что мечтает приобрести какое-то собственное жилье в окрестностях Одессы, что стало завязкой его дружбы с матерью Татьяны Тэсс. Нет сомнений – Одесса продолжала оставаться для него «отчим домом».
Атмосфере космополитической процветающей Одессы предреволюционных десятилетий минувшего века, ее истории и топографии, архитектурному облику, постоянным маршрутам Бабеля, реальным прототипам его героев посвящены работы одесского исследователя жизни и творчества писателя Александра Розенбойма (псевд. – Ростислав Александров) и многие страницы в книге Давида Розенсона «Бабель: человек и парадокс» (М., 2014). О влиянии богатейшей музыкальной культуры города на Бабеля рассказывается в очерке «Музыка еврейской Одессы или после ста лет забвения».
Однако бабелевская Одесса – это не только реальное место. Она – вселенная, в которой все движется и управляется по воле и законам ее создателя-автора. В ней «правда факта» целиком подчиняется задачам художника, «истине вымысла». В этом мире Бабелю необыкновенно свободно, это его Мастерская и Лаборатория, и он с ним не расстается совсем не из-за «катастрофической» нехватки сюжетов, как писала советская критика. Одесский миф становится его Храмом и влияет на его отношение к реальной Одессе, в согласии с ним он живет все свои земные годы, где бы не был физически.
В 1921 году появляется рассказ «Король» – первый из цикла «Одесские рассказы». Это был дебют всероссийского масштаба. С него начинается большая литературная слава Бабеля (кроме «Короля» в него вошли «Как это делалось в Одессе», «Отец», «Любка Казак»). С тех пор феерическая Молдаванка ярко и ощутимо поселяется в сознании миллионов читателей. В 1925 году Бабель написал киносценарий «Беня Крик» и, по-видимому, в том же году рассказ «Закат». А затем трагическую драму «Закат» (1926–1927). В Одессе (но не только) происходит и действие в повести об одесском налетчике Коле Топузе, писавшейся в тридцатые годы. Она была изъята при обыске.
Читайте в тему:
Одесса Бабеля подобна не только Петербургу Пушкина и Достоевского или булгаковской Москве. Возможно, она ближе всего западноукраинскому местечку Бучач, где родился нобелевский лауреат Шмуэль Агнон? другой классик еврейской и мировой литературы XX века.
И у Агнона Бучач – имя собственное для названия мира, созданного силой воображения писателя. Черты действительности в нем заострены и усилены до обобщенного авторского символа. Это собирательный образ еврейского галута на рубеже XIX–XX веков. Здесь есть свои раввины, мудрецы, цадики, нищие синагогальные служки, богачи и бедняки, маскилим – врачи, инженеры, юристы, коммерсанты. Но пока еще субботняя лампада ярко горит и объединяет их всех на молитве и праздничной субботней трапезе. Из Бучача можно с легкостью воспарить в небеса еврейской мистики, встретить и, разумеется, не узнать Элиягу А-Нави. Ведь жизнь там часто переплетается с хасидской легендой. А можно по фантастическому подземному тоннелю попасть в Ерушалаим, чтобы потом тосковать там о родном местечке, долгие годы пытаясь закрепить на бумаге его ускользающий облик. Мучаясь чувством вины перед близкими, оставленными там на произвол судьбы, и упорно ища ответа на вопрос: действительно ли переселение в Сион перерождает еврейскую душу? И так ли это хорошо?
Вселенной Бучача противостоит вселенная бабелевской Одессы. Здесь вместо неутоленной тоски, мистики, философских размышлений о смысле жизни – карнавальный напор и бурный ритм «Одесских рассказов», половодье энергии, вырвавшейся из гетто на необъятные российские просторы, за черту оседлости, отмененную одним из первых декретов Временного правительства. Люди в этом буйном красочном мире жадны к жизни, к чувственным переживаниям, и автор описывает их с неистощимой веселой экспрессией и виртуозным мастерством.
В квазиавтобиографическом цикле рассказов «История моей голубятни» формально действие первых двух из семи рассказов происходит в Николаеве, но все они объединены той же интонацией главного героя. Образ и роль Николаева по атмосфере как бы является предтечей образа и роли Одессы и несет ту же смысловую художественную нагрузку. Всего же в этот цикл входят шесть рассказов, которые публиковались с 1916 по 1937 гг.
Символично, что и в последнем своем произведении, опубликованном при жизни Бабеля в августе 1937 года, рассказе «Ди Грассо», действие тоже происходит в Одессе, и атмосфера города играет важнейшую художественную роль – то есть в выдуманную, как и в реальную Одессу писатель возвращался на протяжении всех лет литературного творчества. В основе «Ди Грассо», завершающего цикл, лежит реальный эпизод из жизни Одессы и самого Бабеля – посещение им спектаклей гастролирующей сицилийской труппы с участием трагика, основательно подзабытого к середине тридцатых годов.
Миф Одессы на этот раз приобретает новые черты – она становится подмостками и фоном событий, которые определяют две основных вехи в развитии личности рассказчика: половой инициации и осознания своего призвания. Одесса в «Ди Грассо» подобна пустыне в пушкинском «Пророке»: хотя антураж совсем иной – театральные барышники, мещанский круг, бестолковые мечтательные подростки, – однако результат тот же. Именно она становится местом, где происходит Встреча, которая «отверзает» уши и душу будущего писателя.
Бучач Агнона сродни местечку на картинах Шагала. Это отправной пункт, откуда еврейская душа со скамейки перед покосившимся домиком взмывает в поднебесье мощной древней культуры и отправляется в путешествие по мистическому еврейскому миру.
Бабелевская Одесса – точка опоры для прыжка из мира обыденности и житейских мерок в универсальный мир искусства, живущий по собственным законам. Одесса – место, где родилась и до конца его жизни продолжала обитать бабелевская муза, вскормленная соками русской и еврейской культур и щедро приправленная специями и ароматами третьей – французской.
«Ди Грассо» – последний рассказ из цикла «История моей голубятни» и предпоследний, который Бабель опубликовал при жизни, – вышел в конце лета 1937 г. («Огонек», № 23). Е.И.Погорельская обнаружила, что в фонде журналиста В.А.Регинина (того самого, в гостях у которого Бабель познакомился с Кашириной в 1925 г.) хранится машинопись рассказа с названием «Де Грассо» и датировкой: «17.7.1937».
Как символично! Мир искусства, пленивший Бабеля в отрочестве, мир, которому он без оглядки служил до конца дней, открылся ему в Одессе, и в его душе навсегда остался связанным с ней.
Из книги «Качели надежды: Три сюжета из жизни Исаака Бабеля»