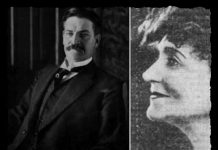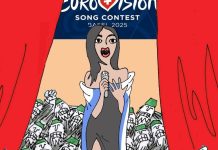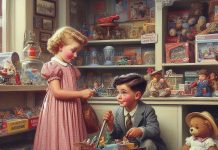Попытка нелитературно-психиатрического анализа
Муся РОЙТМАН
Вот тот художник, который утопил площадь в миллионе алых роз, у него ведь диагноз, да? Биполярка судя по всему. Этакая склонность к крайне необдуманным решениям.
Мне ещё странно, что актриса, которую он любил и которая не подозревала о его существовании, восхитилась, а не испугалась. Я бы обосралась, честно. Открываешь утром окно, а за ним кладбище цветов и насекомые. Много насекомых. Прям фильм ужасов, апокалипсис грядёт.
И вот вопрос логистики тоже волнует. Он же не самолично разбрасывал хулион цветов стоимостью в дом, картины и кров по площади.
У него кроме дома судя по тексту ещё какая-то недвижимость была, потому что иначе наличие крова отдельно он дома никак не объяснить.
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
То есть нанял людей, которые ночью всё это делали и видимо весьма эффективно, потому что никто не засёк и не сдал.
Кстати, интересно кому муниципальные власти предъявили счёт за уборку органического гнилья.
В общем романтика такая, с анамнезом в истории.
Кстати, 100 роз — это одно ведро. Я как-то добыла на мамин день рождения. Там наверно площадь маленькая или розы негусто лежали…
ОТ РЕДАКЦИИ

А теперь побудем занудами и расскажем, как это на самом деле было.
Сюжет стихотворения Андрея Вознесенского, положенного в основу песни Раймонда Паулса в исполнении Аллы Пугачёвой, излагает одну из легенд об удивительном поступке грузинского художника Нико Пиросмани. Он питал неразделённую любовь к французской актрисе Маргарите де Севр, которая блистала на театральных подмостках Тифлиса в самом начале XX века — в 1905 году.
По одной из версий легенды, влюблённый Пиросмани пробовал разные способы завоевать сердце красавицы (однажды он нарисовал её портрет), но она была неприступна и часто даже не удостаивала художника взглядом. Такое отношение приводило Нико в исступление. Он порою в слезах припадал к земле, чтобы коснуться губами следов её ног. Подобное обожание на грани умопомрачения было не по нраву актрисе и лишь ещё более увеличивало её презрение по отношению к художнику.
Но в один день к гостинице, где проживала Маргарита, подъехали несколько арб, доверху гружёных цветами. Вопреки стихотворному образу, в легенде рассказывается не только об алых розах (розы были самых разных расцветок), но и помимо них, были ещё сирень, веточки акации, анемоны, пионы, лилии, маки и многие другие цветы.
Одна из версий легенды была изложена в произведении Константина Паустовского «Бросок на юг» (пятая книга автобиографической «Повести о жизни»; 1959—1960), послужившем для Андрея Вознесенского источником вдохновения. В изложении Паустовского упоминаются, помимо роз, многие другие цветы:
"Каких цветов тут только не было! Бессмысленно их перечислять!
Поздняя иранская сирень. Там в каждой чашечке скрывалась маленькая, как песчинка, капля холодной влаги, пряной на вкус. Густая акация с отливающими серебром лепестками. Дикий боярышник — его запах был тем крепче, чем каменистее была почва, на которой он рос. Нежная синяя вероника, бегония и множество разноцветных анемон. Изящная красавица-жимолость в розовом дыму, красные воронки ипомеи, лилии, мак, всегда вырастающий на скалах именно там, где упала хотя бы самая маленькая капля птичьей крови, настурция, пионы и розы, розы, розы всех размеров, всех запахов, всех цветов — от чёрной до белой и от золотой до бледно-розовой, как ранняя заря. И тысячи других цветов".
За короткое время улочка перед гостиницей была сплошь усеяна цветами. Увидев это, Маргарита вышла к Нико Пиросмани и крепко поцеловала его в губы — в первый и последний раз. Вскоре её гастроли в Тифлисе завершились (другой вариант легенды в изложении Паустовского гласит, что она уехала с богатым поклонником), и они более никогда не встречались.
Многие современники считали Пиросмани «не от мира сего». Он утверждал, что может видеть святых, а его кисть будто бы «пишет сама». Такие заявления, наряду с его нестабильным образом жизни, вызывали у окружающих подозрения в его психическом здоровье.
Однако официального диагноза психического заболевания у него не было, и современные исследователи склонны рассматривать его особенности как проявления эксцентричности или глубокой сосредоточенности на творчестве.
Заголовок и подзаголовок даны редакцией