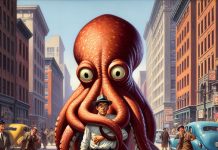И вновь хорошо знакомая нашим читателям иркутская журналистка побывала в Израиле. И вновь написала о стране, которую так полюбила — на сей раз трилогию под названием "Внутренняя Монголия". Сегодня мы познакомимся с ее второй частью (начало — в публикации "Проходящий мимо слон")
Настя ЯРОВАЯ, Иркутск — Хайфа
Фото автора
В студенчестве мы с мужем занимались горным туризмом. Конец восьмидесятых годов – ни о каком удобном, специальном туристическом снаряжении речи еще не шло. Большой удачей было купить обычные вибрамы. Пенополиуритановый коврик был чудом невиданным. Только-только появились китайские пуховики, а вообще в свой первый зимний поход мы с мужем ходили в ватниках. Бабушка моя называла их «стежонки». И валенки с галошами – как теплая обувь на привал.
Мы назывались «госы» – потому что входили в клуб горных туристов госуниверситета. Помню, как собирались на квартире у нашего руководителя на инструктаж перед зимней туриадой, которая проходила в верховьях Белого Иркута… Или Черного. Прозвище у руководителя было Зеленый, из-за зеленого свитера крупной вязки с высоким горлом, в котором он всегда ходил. Пару лет назад, отметив свое пятидесятилетие, Зеленый умер, кажется, от диабета… А Витамин погиб при спасательной операции в горах – он стал спасателем, мы встретились с ним как-то по работе, когда упал самолет во втором Иркутске: меня пропустили за ограждение как журналиста федеральной газеты, а Витамин спасал из-под завалов людей. Рассказывал потом, как они столько сил потратили, вытаскивая обгоревшее тело, а оказалось, что кто-то хранил на балконе половину коровьей туши… Еще среди нас были огромный Папа и с ним маленького роста, кажется, Миша-химик (с химического факультета). Саня Дохлый с исторического. Зеленый был с физмата. Мы – с филологического. Еще у нас имелся Виктор Петрович – бодрый и активный дед, лет, пожалуй, шестидесяти, который просто прибился к молодежи. Это было и странно и забавно одновременно, но Виктора Петровича все время брали с собой – он никому не мешал, от группы не отставал, с нравоучениями не лез. На каком основании ему отказывать? Хотя, как и почему он прибился именно к госам, никто не знал.
Зеленый жил на Волжской, мы вваливались к нему толпой и слушали инструктаж: как вести себя на лавиноопасных склонах. Пока это была теория, познать практику нам предстояло спустя несколько дней. Одним из заданий перед предстоящим походом для каждого было сделать настоящий лавинный шнур. Для этого требовалось купить крепкой бельевой веревки длиной метров 15-20, покрасить в красный цвет и нанести метровую разметку. Помню, как я «варила» дома в кастрюле наши с Борисом два мотка веревки. А потом мы делали из пластыря метровые отметки: прямо ручкой писали цифры и рисовали стрелочку в сторону нуля. Понятно для чего: чтобы известно было куда копать, ведь «на нуле» должен находиться, собственно, турист.
«Если вас закатало в лавину, – рассказывал Зеленый, – когда все стихнет, первое, что надо будет сделать – это плюнуть. Куда слюна потечет – значит там земля, и копать надо в противоположном направлении…»
Но мы, конечно, были уверены, что нас обязательно найдут по лавинному шнуру.
К слову, лавину на той туриаде мы увидели. К счастью, она сошла по противоположному склону. Страшное и захватывающее зрелище. Мы как раз стояли на склоне и обвязывались своими лавинными шнурами…
* * *
Время от времени надо брать паузу. По нескольким причинам. Одна из них – интеллигентская, ее хорошо обозначил в свое время Имант Зиедонис: «что ли ты хочешь по свету всех блох своих разнести?!» Когда тебе не хочется, чтоб тебя пожалели или чтоб отдали должное твоей силе духа или еще какая-нибудь психологическая банальщина – самое время затихнуть. Затаиться. Спрятать саму себя от всех.
Другая причина отчасти пересекается с первой: ты понимаешь, что блох в тебе накопилось до кучи, но осознать их не получается. Потому ты просто не можешь ответить толком ни на один вопрос из серии «что случилось», потому что, собственно, не случилось во внешнем мире ровным счетом ничего, но при этом уже и ежу понятно: дальше так продолжаться не может. Как? А вот так.
Никогда никому ничего не объясняй. Друзья поймут, знакомые не обратят внимания, а все остальные… Но будем честными: разве нам есть дело до остальных? В лавине всегда каждый сам за себя. Со своим персональным лавинным шнуром. А дальше – как повезет.
* * *
«Дорогие друзья!
Если вы читаете это письмо, значит или у нас с вами есть незакрытый совместный проект, или я просто к вам хорошо и тепло отношусь. А скорее, и то и другое вместе.
Сообщаю вам, что с сегодня, не откладывая в долгий ящик, я ухожу во «внутреннюю монголию» (ну, не в монастырь – и то хорошо), а потому максимально прекращаю все возможные коммуникации и не берусь за новые дела и проекты. Но это никак не скажется на текущей работе: все продолжается, никакую деятельность я не сворачиваю.
Упреждая возможные вопросы. Дети, родители, муж и я сама, слава богу, живы-здоровы, никаких потрясений и жизнь идет в штатном режиме. Также мне не нужна никакая помощь, а если будет нужна – все вы меня знаете – я попрошу.
Пока я ставлю себе срок до нового года. Но с возможностью продлить еще на два месяца.
Все свои обязательства по текущим проектам я выполню: я все время на связи в электронной почте. Также если что-то срочное и важное, конечно, пишите. По рабочим моментам я из жизни не выпадаю. Но оставляю за собой право отвечать, когда мне удобно, или не отвечать вовсе, если сочту это возможным. На меня можно обижаться, злиться, расстраиваться и испытывать весь спектр эмоций на тему «да кем она себя возомнила?!» Но чего точно не нужно делать – это беспокоиться.
Не знаю, каждому ли нужно такое путешествие во «внутреннюю монголию». Но мне – да.
Спасибо».
* * *
Один из самых главных, ключевых, центральных и трудных вопросов – о предназначении. Про передать соль. На него накручиваются нити размышлений-раздумий. И два-думий тоже. Простые до одури. И такие же примитивные. А вдруг я уже передала? А вдруг я так и не сумею передать? А какую именно соль? Где ее взять? Хватит ли у меня силы и знаний чтобы?
– Понимаешь, в чем дело, – со свойственной мне горячностью вещала я очередную банальность: – соль – это же важно! Как не упустить и осознать сам момент. Я уж не говорю про саму соль… Про то, ЧТО именно есть она в каждом конкретном случае…
Хорошо вещать банальности, когда гипертонический криз тебя отпустил, ты сидишь в двадцати километрах от центра мира, и разбираешь в просторной молочной тарелке, на которой написано spagetty, громадный гранат – сейчас он опять выкрасит твои пальцы, отчего ногти будут казаться грязными, но эта заповедная мудрость зерен… Эта непередаваемая сладость…
Вечером мы решили посмотреть фильм. «Примадонна» почему-то зависала и не грузилась, потому решили посмотреть один из коллекции скаченных. Выбор пал (не знаю почему – но теперь-то, когда все уже случилось, – знаю!!) на «Страну глухих». Как-то так вышло, что я ни разу не видела этот фильм целиком, хотя знала и про сюжет, и про великолепный дуэт, с которого началось мое знакомство с Чулпан… А это оказалось не так себе знакомство… И хотя в данном случае к делу не относится…
…Но разве я сама себе не противоречу тут?! Как может не относиться к делу ВООБЩЕ ВСЕ, что так или иначе связано (этот глагол тут ключевой!) меж собой через меня. Если я – центр своего собственного мира, значит все дороги внутри него ведут ко мне. В мой персональный мир (который ведь и палиндром тоже – если вдруг кто не догадался самостоятельно). Просто в этих хитросплетениях так легко запутаться. Потому – осторожно, не торопясь, спокойно, без лишних телодвижений и слов…
Мы посмотрели Страну глухих, а на завтра оказались в иерусалимском Бабеле. С Бабелем тель-авивским я знакома со времен его открытия: в нем продавались и мои книжки тоже. Ну как мои: те, которые я сделала. И вот, буквально на днях, в Иерусалиме, на улице Шац, дом 4, открылся еще один Бабель. И конечно, мы туда зашли, познакомились с очаровательной владелицей Яной, которая принял меня за йога. Он так и сказала: а я думала, вы – йог, – и указала на мои босые ноги в киббуцных сандалиях (вокруг-то все были уже в закрытой обуви и даже в сапогах – потому что конец ноября все-таки). А потом я на полке увидела книгу "Время колоть лед". И когда раскрыла ее, как положено, на случайной странице, то первая же увиденная строчка была… размышление Чулпан про соль.
И я купила книжку тут же. Хотя было ясно, что покупать в Иерусалиме со всеми наценками и накрутками книжку, которую за обычные рубли и в два раза дешевле можно купить в Иркутске…
Но разве я могла ее не купить?
Ведь это была одна из тех ниток-связей. Красных нитей английской короны (о чем писал еще Гете: «Нам довелось слышать, что в английском морском ведомстве существует такое правило: все снасти королевского флота, от самого толстого каната до тончайшей веревки, сучатся так, чтобы через них, во всю длину, проходила красная нить, которую нельзя выдернуть иначе, как распустив все остальное, и даже по самому маленькому обрывку веревки можно узнать, что она принадлежит английской короне…»). Я уж не говорю про красную нить судьбы (по китайской притче) и про иерусалимскую красную нить (которую можно получить буквально в двух шагах от улицы Шац…). И тот самый лавинный шнур, который тридцать с лишним лет назад я «варила» на кухне у своих родителей перед походом на Хамар-Дабан…
* * *
А до того, как мы попали на улицу Шац, нам был явлен Яффский четверговый пир на Давидке – именно сюда перебралась самая известная иерусалимская «блошка», которая раньше собиралась еженедельно на улице Агриппас…
Не могу похвастать любовью к блошиным рынкам, но найти какой-нибудь один-единственный развал, где можно копаться, потеряв счет времени, чуя, что обязательно тебе что-нибудь найдется… В один из первых моих приездов в Иерусалим я оказалась в букинисте (кстати, он находится на той же самой улице Шац – новенький Бабель, теперь его ближайший сосед), где меня поразил огромный ящик, наполненный открытками. Старые и даже старинные, исписанные понятными и непонятными значками букв, кажется, на всех языках мира, с марками и штемпелями разных форм и цветов – они были свалены в пеструю кучу. Я погрузила в нее руки – и пока не нашла пять совершенно особенных открыток, не успокоилась. И это при том, что я не фанат, не филокартист и не испытываю к открыткам ровно никаких дополнительных чувств. Просто тогда я чувствовала, что мне надо найти – и нашла.
Так и на блошке. В большой деревянной коробке меня ждали серебряные подвески, броши, медали, монеты, лом, старье и древность, имитация и подлинники. Мы погрузились туда часа на полтора, и в результате игры в четыре руки обнаружили пару аметистовых подвесок и «ладошку» с хаем внутри. Такая ладонь-хамса, купленная несколько лет назад еще на агриппасовских развалах, была мною благополучно потеряна в одном из путешествий. И вот ее удалось восстановить, да еще со словом «жизнь». А потом мне в руку легла серебряная уточка.
Старинная серебряная уточка-крошка, которую использовали как миниатюрную карманную пепельницу. Разве ее можно было не купить?!
И ты мне ее купила, конечно. Мне – и не мне.
На завтра я уехала в Хайфу. Мы встретились с Леной на море. И я протянула ей уточку. Почему Лене? На поверхности плескалось то, что дарить миниатюрную карманную пепельницу надо тому, кому она может пригодиться. Вторым слоем/уровнем шло то, что это именно уточка. Птица. Ведь одним из самых ярких ноябрьских приключений стала наша с Леной поездка в птичий парк Агамон в долину Хула, где мы смотрели за журавлями: один клин, второй, третий, бессчетный, тут и там, над головой, на болоте, на горизонте, в лучах закатного солнца, с крылатым шумом, курлыканьем… И тут же – пеликаны, фламинго, цапли, каравайки, ибисы и забавная птичка сиксак… Сиксак удачи. И утки-мандаринки, конечно, тоже – как же без них, при таком-то многообразии?! (Держите мандаринок в голове! Они нам еще встретятся…)
Одним словом, «птичья линия» в нынешнем путешествии прослеживалась более чем отчетливо. Из окна Лениного дома виден огромный кипарис, внутри которого живут птицы. А когда я возвращаюсь из Хайфы в Бейт-Шемеш, рядом с вокзалом «растет» огромное индустриальное трехгранное «дерево» – вертикальная рекламная конструкция, внутри которой живут птицы. Своим птичьим базарным шумом-гамом они делают конструкцию совершенно живой.
Но и это еще не все. Потому что потом мы едем в Нес-Арим. Нет, не так. Не потом. Начать надо, как положено – издалека…
Я люблю традиции. Мне кажется, они удерживают нас на плаву в самых сложных жизненных ситуациях. Дают смысл тогда, когда смысла, казалось бы, уже совсем ни в чем не осталось. Островок постоянства. При этом их можно сочинять самостоятельно. Одна из таких традиций: мы обязательно ездим в Печенку (раньше ездили в Дом Тихо в Иерусалиме, но потом ресторанчик там прикрыли… И тогда обнаружилась Печенка). Это мясной (что и следует из названия) ресторанчик, который находится в небольшом мошаве с прекрасным названием Нес-Арим. Горное чудо. Обычно там мы берем невообразимых размеров фокаччу – ее делают прямо при нас, в огромной дровяной печи. И обязательно Павлову на десерт (с некоторых пор нами решено пробовать Павлову везде, где она встречается в меню – вот и еще одна традиция. Ничего не стоит таких традиций навыдумывать просто из ничего. Но они – как вешки на пути. И как елочные игрушки – украшают и радуют глаз). На сей раз мы поехали в Печенку днем, но сначала решили прогуляться по самому мошаву. И вот тут-то Нес-Арим вошел в меня как нож в масло (хочу именно такую метафору! Раз уж я начала с банальностей – композицию надо как-то закруглять). Так бывает: ты попадаешь куда-то и понимаешь, что пропал. Вернее – нашел. Вот оно. И даже не нашел, а нашлось. Обнаружилось. И дальше можно не искать. Потому что – да…
Потому что горное чудо.
На стене нес-аримовского детского сада мозаикой были выложены буквы. При переводе они сложились в строчку стихов Эхуда Баная:
Птичьи ангелы над тобой сопровождают твои шаги.
Издали зажигается свет.
Не сворачивай с дороги, не сбивайся с пути,
Для того чтобы ты мог вернуться…
И мой птичий ангел – серебряная уточка ложится ко мне в руку. И я везу ее в Хайфу, и разжимаю ладонь перед Леной. И Лена приходит в восторг и вдруг говорит: подожди! Я знаю, что подарю тебе!..
И выносит мне точно такую же миниатюрную серебряную пепельницу в виде башмачка.
Потому что – да: не сбивайся с пути, чтобы ты мог вернуться…
* * *
Конец ноября выдался в Израиле теплым и даже жарким. Хотя вечерами, конечно, свежеет. Я сижу у Лены на балконе, сжимаю в руке свой башмачок и, как положено, думаю ни о чем. Мысли сами текут – вытекают из головы и втекают в нее. Лена приносит мамину кофту и набрасывает мне на плечи.
И я рассказываю ей забавную историю про саму себя. Как однажды в Москве в Булгаковском доме на каком-то поэтическом вечере, куда меня затащила вдова поэта Анатолия Кобенкова, я увидела живого Рейна. И долго смотрела на него издалека, рассматривала и стеснялась, и конечно, не подошла засвидетельствовать. А потом, когда он встал и удалился (такие не просто так уходят), села на его место и сидела там до тех пор, пока Ольга не нашла меня: ты чего тут? – Оля, в этом кресле сидел сам Рейн, а теперь сижу я…
Но кофта Лиснянской – это, конечно, круче.
Мне всегда про саму себя нравилось слово – хвастунья. Это все Катя. Она частенько называла меня хвастушей. А я мысленно исправляла на хвастунью. Это слово всегда казалось мне странным образом красивым. Певучим. И каким-то ладным, что ли…
…Это сейчас я «притягиваю за уши» тот факт, кто «воспоминательный роман» Инны Львовны ровно так называется. А пока, там, в ноябрьской Хайфе, я сижу в кофте Лиснянской и выстраиваю свою вереницу параллелей между уточками и башмаками…
Птичьими ангелами и дорогами, которые мы выбираем… (Хотя в иерусалимском букинисте на этот раз я купила не О Генри, а Джека Лондона – издание, которому совсем скоро исполнится сто лет).
Горными чудесами и собственным именем в израильском варианте…
И нитями, нитями связующими все и всех – через меня…
* * *
Что поразило меня в Музее Израиля. Несколько экспонатов, картин и моментов. Совершенно потусторонний, почти инфернальный (при определенном ракурсе) проход к основной экспозиции. Тень от сетчатых стульев. Картина Шиле (и наш спор о том, где ставится в его фамилии ударение, и мое полное фиаско, но и открытие – на примере Пауля Клее, о котором мы и спорили), где был изображен запутавшийся в чешском Крумлове ветер… (Я не знаю, о чем думал художник, когда писал толпу и суматоху зданий, похожих на тревожных людей, но я четко знаю, что для меня это картина о ветре… Она таким магнитом притянула меня, и эти – почти электромагнитные – волны разбудили внутри память, а следом за ней острое желание писать новых сочинений по картинам… И наконец, Атропос. Старая, морщинистая, почти бесполая, с грубыми жилистыми руками, в которых ТЕ САМЫЕ ножницы…
Так вышло, что мне приснилось много снов (мы даже родили такое веселье на сей счет: как приснился ночью интересный сон, так положи утром в копилку 10 шекелей – не бесплатно же тебе его показали!). И почти все – о смерти.
А что если мысли о смерти требуют искупительной жертвы?
Что если вообще все мысли о серьезном требуют такой жертвы? Или не жертвы – а искупления. Искупая, ведь не обязательно жертвовать.
Несколько ночей подряд мне снилась бабушка и смерть. Бабушка и так мертвая – уже десять лет как. Когда она приходит во сне, никогда со мной не говорит. А в этот раз она еще и прямо во сне снова умерла. А до этого умер мой четвертый новорожденный сын. И все это – в интерьерах нашей старой квартиры. Сегодня в ней в первозданном виде осталась только зеркальная дверца от шкафа, которую я не смогла выбросить, и старые настенные часы, которые давно не идут. Все остальное так или иначе перестало жить в моем доме – в доме моих бабушки и деда, где и я родилась, а потом и мои дети, а теперь мы продолжаем жить. Все здесь я переделала и переставила. И только сны мне снятся неизменно в старых интерьерах: бабушкина комната с двумя панцирными кроватями, ковер на стене в зале (большую комнату дед всегда называл зала). Какое-то все большое и малое одновременно. Большое – потому что в детстве все было большое. Малое – потому что сейчас-то я выросла, и события сорокалетней давности выплывают лишь во сне. Эти стеньки разина челны…
А что если мои мысли о смерти, интеллигентщина о собственном вреде и никчемности искупаются именно снами? И тогда получается, что эти смерти во сне – заместительные. И ребенок мой четвертый новорожденный умирает от холода… И бабушка моя снова умирает во сне – я не вижу этого, мне о том сообщили. И мальчишки начинают кидать жребий, кто теперь поселится в бабушкину комнату… А тот новорожденный младенец, он был покрыт тонким слоем инея. И такое чувство, что я его именно таким и родила – уже замерзшим… Но может, это значит, что я исторгла из себя то мертвое, что во мне было? Может, бабушка моя снова умерла вместо меня, потому что ведь двум смертям не бывать…
Иногда мне слышится внутри себя, как Атропос берет в руки нить… Но тогда я трясу головой и вижу, что это Клото. Пока еще она. Пока еще нить моя в работе. И отсюда рождается очень странная параллель: мы столько вяжем сейчас. Ты – свитера, кофты, шарфы, шапочки, все, чтобы согреть. Я – пледы и палантины, все, чтобы укутать. Временами – и ты, и я – распускаем. Вот такое грубого помола пенелопство: ждать и ткать вечное полотно… Где же ты, Одиссей. Где же ты, моя Итака. И ведь все время маячит поблизости эта старая бесстрастная Атропос со своими холодными и неотвратимыми ножницами…
А потом находится вдруг Нес-Арим. И внутри все встает на свои места.
* * *
Та зимняя туриада проходила в горах Хамар-Дабана, на границе с Монголией. Поднявшись на Мунку Сардык, можно было видеть эту самую Монголию, которая совершенно не отличалась от Тункинской долины, раскинувшейся по нашу сторону границы.
Граница ведь всегда условность. Просто линия, которую нарисовали, чтобы как-то отделить одну страну от другой. Один мир от другого. Одну жизнь от другой…
Как и всякий вид на простор, что открывается с любой горы, Монголия не могла не впечатлить: своей степенностью (от степь) и пустынностью (от пустота). Несмотря на то, что действие и так происходило зимой, это оказалась сама по себе холодная картинка. Такой она и осталась в памяти.
А сейчас я дорисовываю ее вот до какого пейзажа.
Идут по горным лавиноопасным склонам люди, за каждым из них тянется красная нить лавинного шнура. Она, конечно, не спасет, если беде суждено будет случиться. Но она дает надежду, что тебя спасут, откопают, вытащат из самой глубокой подснежной глубины. Потому что красную нить хорошо видно сверху. А на белом снегу – особенно.
* * *
«…Знаешь, что мне представилось: если посмотреть на нашу жизнь отстраненно – чуть сверху и со стороны… Или если представить, что наша жизнь – это книга, текст, роман, в котором можно заглянуть в конец и узнать, чем кончится… В общем если, окинуть наше с тобой вместе и не вместе вот таким отстраненным взором-взглядом, то, вероятно, можно будет разглядеть тут и параллельность наших сюжетов, и неровность их, но неизменное сближение-притяжение, которое не позволяет оборваться нашей с тобой нити. Если угодно, можно назвать ее нить судьбы. Но я бы лучше представила ее как лавинный шнур. От меня к тебе идёт такой шнур. И от тебя ко мне тоже. И потому мы можем, конечно, погибнуть в лавине, но потеряться – вряд ли. По этому шнуру мы всегда найдем друг друга…»
И ровно такие шнуры связывают нас с теми, кто нам близок и дорог. И с теми, кто нам далек, но не менее важен. Важен, чтобы мы поняли в самих себе и в самих же себе разобрались. И все эти связи хорошо видны на карте нашей жизни. Но чтобы их разглядеть, надо подняться на какую-то особую точку внутри себя. Отстраниться. Остаться в одиночестве. И просто смотреть.
Кутаясь в кофты и мысли великих. Сжимая в руках «башмачок всевластья». И зная, что Горное чудо – есть. И оно ждет тебя…
То есть меня.
* * *
Одна мысль давно занимает меня. Вот, например, нам говорят: если ты сделаешь это, то обязательно получишь то. То есть идёт нормальный честный торг.
Если сделаешь работу, получишь деньги. Пробежишь быстрее всех, получишь медаль. Напишешь самую лучшую книгу, получишь литературную премию. То есть принцип простой и вечный: сделай – получишь.
А теперь представим себе: взяли этот принцип и наполнили неожиданными договорами.
Если выучишь английский язык, у тебя больше никогда не будет болеть голова.
Если научишься за неделю стоять на голове, то удастся выгодно поменять квартиру.
Если посадишь тысячу деревьев, исполнится твое самое тайное и самое желанное желание.
То есть как бы обе части любого из этих утверждений совершенно реальные, ничего фантастического. Но вместе они складываются в какой-то непонятный компот, никак между собой не связанный. А раз так: ну и что толку учить язык? Как он поможет от мигреней?! Никак.
Но…
А если попробовать? А если взять вот так: робко несмело осторожно, но при этом неуклонно, неукоснительно и безоговорочно – взять и проверить на деле.
Выучить язык – и вдруг правда голова подчинится?!
Вдруг правда – ключевое понятие. Принцип спонтанной надежды.
Вдруг правда: если я найду слова Эхуда Баная, которые записаны на стене детского сада в Нес-Арим, внутри его песен… Если вслушиваясь в слова на уже знакомом, но все еще непонятном языке, я смогу услышать именно их, про птичьих ангелов – что-то сдвинется в нужную сторону?!
Что-то – не только внутри меня самой, но и в мире, опутанном лавинными шнурами, в переплетении которых я сейчас пытаюсь разобраться.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И СУЩНОСТИ
«Страна глухих» – художественный фильм, режиссёр Валерий Тодоровский, 1997.
Чулпан Хаматова – российская актриса.
Бабель – книжный магазин. Открылся в Тель-Авиве в декабре 2015 года. В ноябре 2019 года открылся в Иерусалиме.
«Время колоть лед» – книга Чулпан Хаматовой и Екатерины Гордеевой (ред. Елены Шубиной, 2018).
Инна Лиснянская – поэт, мама Елены Макаровой.
Эгон Шиле – австрийский живописец и график, один из ярчайших представителей австрийского экспрессионизма.
Атропос – старшая из трёх мойр — богинь судьбы. Атропос перерезает нить жизни, которую прядут её сёстры Клото и Лахесис.