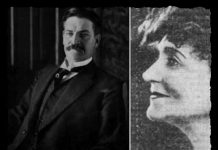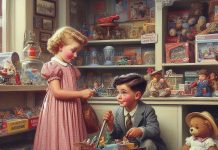Из цикла "Наш Никита Сергеевич". Повесть временных лет. Продолжение. Начало в публикации "На Красной площади всего круглей земля"
Эфраим БАУХ
В беспечно жаркий майский день, ополоумевший от пьяни и праздничного равнодушия раздался одинокий выстрел, эхо которого потрясло страну сильнее всяческих канонад.
Тринадцатого мая застрелился Фадеев.
Поначалу я не принял столь остро это сообщение в чаду экзаменационной сессии, только изредка слыша в толпе повторяемое двустишие: "раздался выстрел: таков конец соцреалиста".
Я готовился ехать в Москву, а оттуда на Байкал, где должен был проходить геологическую практику. Настроение было странно двусмысленным. Я был подобен человеку, собирающемуся вступить в холодную воду: ему боязно да и непривычно оторваться от уже устоявшейся стихии, с которой он расстается, как снимает одежду, — сначала прощается с парками и улицами, затем с общежитием и товарищами, наконец, с другом. И, прервав с ним на полуслове уже не первый год длящееся внутренне беспрерывное сосуществование, вскакивает в вагон беспомощным и нагим, и стечение лиц вокруг, которых до сих пор проносило мимо по касательной, внезапно подступает в упор угрюмым молчаньем, ощутимо и угрожающе вторгаясь в его внутренний покой и цельность. Мне досталась в купе вторая полка.
Поезд шел навстречу восходу, лица пассажиров были выспавшимися и жадными до новых впечатлений. Новые пространства жизни разворачивались на оси по дуге, срезаемой поездом. Я был абсолютно один, но, оказывается, все, оставляемое мной, вовсе не было отринуто рвущимся вдаль поездом, оно жило во мне, оборачивалось новым обличьем и обретало силы.
Непрерывность внутреннего сосуществования — с родными, друзьями, миром — продолжалось. Я жадно вбирал набегающие на меня, наливающиеся цветом и светом, пространства, и с не меньшей жадностью прислушивался к голосам подо мной и в соседнем — через переборку — купе. Как ни странно, разговор и тут и там шел о самоубийстве Фадеева. Позднее, в течение дня, проходя по вагонному коридору, я несколько раз и в разных купе слышал разговоры об этом. Говорили громко, как бывает, когда трудно сдержать рвущуюся наружу взволнованность. Поражало количество баек, в которых трудно было отличить правду от вымысла. Говорили о том, что в последние месяцы он лежал в больнице после долгого смертельного запоя, что раскрытие преступлений Сталина его добило. Ведь и он, как председатель Союза советских писателей, пусть косвенно, способствовал гибели ни в чем неповинных и наиболее талантливых, короче, приложился к бушевавшему столько лет темному злодейству, что падению его особенно способствовали возвращающиеся из сибирских лагерей оставшиеся в живых писатели, что за день до самоубийства к нему пришла какая-то совсем искалеченная писательница, обвинила его в убийстве, начала кричать и трястись в припадке.
Кто-то спросил: куда пришла к нему, в Союз, что ли, писателей? Да нет же, ответил другой голос, его уже там давно не было, в правлении Союза. Она к нему домой приехала, на дачу, в семнадцати километрах под Москвой, в Переделкино. Так я впервые в жизни услышал это имя — Переделкино, с которым у меня лет через пятнадцать столько будет связано. Кто-то с явной еврейской картавостью возражал: не совсем это правда, Фадеев пытался помочь репрессированным, например, Иосифу Певзнеру, который был прототипом его Левинсона в романе "Разгром" командиром особого отряда на Дальнем Востоке. Еще бы, сказал другой голос, героя-то своего, конечно же спасать надо. Знаем мы этих особистов, обиженно сказал третий голос. Одни говорили, что до самоубийства он созвал гостей, все перепились. Другие говорили, что был один-одинешенек и абсолютно трезв, позвонил Ворошилову и сообщил, что собирается делать, тот всполошился, но было поздно.
Я лежал на верхней полке, не видя лиц говорящих, что было весьма кстати и ощущалось как продолжение затаенных человеческих пространств, наплывающих то громче, то слабее — в ночной болтовне радиоточки — глухим исподним гулом, тревогами, выбалтывающими мне на ухо свои страхи, сомнения, разочарования и надежды.
Кто-то отчаянно доказывал, что Фадеев излечился от алкоголизма, и всем его окружающим казалось, что восстановил душевное равновесие.
Я лежал и думал о том, что это был год полного нарушения душевного равновесия страны, очнувшейся от угара, что в свете моих чувств и размышлений несколько часов назад у Фадеева просто разрушилась непрерывность внутреннего сосуществования с миром, и гамлетовское — "Распалась цепь времен"- вспыхнуло огненными буквами от грохнувшего пистолета, приставленного к собственному лбу или груди. Под рев фанфар и вдохновенное пение десятилетиями летели головы. Теперь возвращалось эхо — беспрерывная беззвучная панихида, и это было, как в немом кино: под бравурные звуки оркестра или фортепьяно в зале на экране идет нескончаемое и беззвучное изображение массовых похорон. И его не могут заглушить хоры-александровых-имени-пятницкого, заполнившие все палубы государственного корабля, где партия — наш рулевой, никакие оптимистические-трагедии и незабываемые-девятьсот-девятнадцатые. Только иногда внезапный взлет церковного песнопения на миг пробирает до костей потусторонним холодом воздаяния и возмездия в ожидающий всех день Страшного суда.
Но раздается выстрел Фадеева — и только на миг оживает истинная звуковая дорожка нескончаемого немого похоронного шествия — в этом звуке тонут все сладостные аккорды и голоса.
Я повернулся набок и уснул. Сон мой был глубок и легок. Проснулся, как переворачиваются на спину посредине широкой и вольной реки. Поезд медленно катил над огромным распахнутым вдаль плесом со вспыхивающими на солнце стеклами дальних парящих и парящихся в мареве зданий. Это был Днепр. Это был Киев. Наскоро перекусив, я опять провалился в сон, в глубине которого слышались голоса входящих новых пассажиров, толчки и скрежет вагонов, неожиданно и отчетливо произнесенное имя — "Конотоп", обернувшееся конским топом в закатной степи, медленно и сладко закатывающейся в сон. Проснулся на рассвете от звуков радио. Исполнялась новая "Песня без слов"- гимн Советского Союза. Уставшие от дискуссий пассажиры нижних полок, спали крепким сном. Не хотелось спускаться с полки, будить их. Я извлек из-под подушки заложенную туда еще вчера книжку о масонах без начала и конца, чтение которой было столь же безначальным и не завершающимся. До Москвы оставалось несколько часов езды: пейзаж за окнами существенно изменился, стал строже, холоднее, севернее, что ли, по колориту. Курчаво-солнечную украинскую древесную веселость сменили лешачьи залегшие темной хвоей брянские леса с редкими белоствольными прострелами берез и медленным багрянцем зари поверх деревьев. А масоны в книге, уже по локоть в крови, как попугаи, орали о "разуме, свободе и прогрессе" и водили кандидатов, жаждущих вступить в ложу с завязанными глазами по бесконечным коридорам. Это уже их наследники усовершенствовали ритуал: в конце долгого коридора разряжали пистолет в затылок. Это уже их наследники унаследовали обет молчания, а если надо, коллективного крика осуждения. Редкие случаи слияния масонов с иезуитами, у наследников были сплошь и рядом: партия и органы — близнецы-братья, сиамские, не-разлей-кровь. Мистику-то всю в масонство внесли розенкрейцеры, этакие массовые символы — роза и крест: распинают, а затем покрывают розами. Убивают, к примеру, Кирова, а затем всей стаей стоят в почетном карауле; всей иррациональной алхимической восточной магией мистифицируют и вовсе машинные слова западной цивилизации — "политбюро, секретариат, комиссариат", а то и вообще начинают пугать мир заклинаниями — ВЦИК, ЧК, ГПУ, Угрозыск, НКГБ — эти бесконечные спотыкающиеся и сливающиеся "г", "р", "б" — горбаты и гробоносны. Тем временем, масонство мальтийским своим орденом выступает в крестовые походы. Против кого? А первый крестовый — против буржуев, под знаком диктатуры пролетариата. Символы: кепки, кожанки, маузеры, красные банты. А реквизиты — на дачи новоявленных Неронов.
А второй крестовый — против, так сказать, самого диктатора и гегемона, а заодно и крестьянства. Символы: повальный голод, коллективизация.
А третий крестовый — против интеллигенции. Эту рубили, как капусту, во имя диктатуры партии.
А четвертый, значит, крестовый — да против самой же партии — во имя единой персоны, вождя, божественной фигуры.
В голове моей роились безумнейшие фантазии образца пятьдесят шестого: к примеру, грузины объединяются в рыцарский орден, идут на Москву, освобождать гроб Господень Иосифа — сына сапожника (не путать с Иосифом-плотником, отцом Иисуса, который и капли крови человеческой не пролил).
На этом видения мои прервались: за окном уже пролетали ближайшие к Москве станции и полустанки. Внуково. Переделкино (екнуло в груди). Солнечное. Востряково. Москва-товарная. Вот, и Киевский вокзал, в высоченный ангар которого медленно втягивается поезд под бравурные звуки радио "Утро красит нежным светом… "
Площадь перед вокзалом кишит народом, бегущим во всех направлениях, трущимся у прилавков с галантереей. Толкотня, ругня, острый запах немытых тел, груды мешков и сумок. Подхватив чемодан, втискиваюсь в битком набитый автобус.
Дядя оказывается, дома, ибо совсем недавно ему оперировали язву желудка.
— Будь осторожен, — говорит он, — столько босячни и пьяни развелось в этом году, за пару рубликов в подворотне зарежут. Иная заманит, без головы останешься. Амнистия им нужна? Я же с утра до вечера за прилавком вижу, что творится. Надоело милицию подмазывать, а что делать. Обворуют, глазом не успеешь моргнуть. Перед операцией стою.
Вдруг один, такой высокий, моего, пожалуй, роста, волос белый, глаза белые от горячки, стал себя в грудь бить, кричать тонким голосом: — Я, Фадеев, слышите, гады, я Фадеев. На второй день слышу: застрелился.
Вот и коротенькая новелла: дядя Сема и Фадеев — о посильном соучастии дяди в трагических фарсах времени.
— Будь осторожен, — говорит дядя Сема, — сейчас уже чуть полегчало. Кунцево, знаешь что это? Тут же главная его, Сталина, дача была. Тут зона. Сирены. Думаешь, пожар? Это хозяин домой едет. Каждый день. Машины по Кутузовскому несутся, как на автогонках, а его ни разу не видел. Милиция, как тараканы, во всех щелях. И переодетые. К нам каждый вечер приходили документы проверять, увидят чужого, без прописки, начнут душу выматывать. А проспект-дорогу, знаешь, как называли? — дядя Сема наклоняется ко мне, и шепотом, — военно-грузинская. У меня часто последние волосы на голове шевелились: где я живу? — дядя Сема лыс, только немного волос над ушами и на затылке.
Часов в пять выхожу погулять.
В самой сердцевине сердцевин страны никакого лоска, голь и серость похуже, чем в провинции. Только флюиды страха и любопытства, сгущенным потоком, как в вентиляционной трубе, завихряются по оси Кремль — Киевский вокзал — Фили — Кунцево. И мне, впервые приехавшему в Москву провинциалу, предстоит ездить по этой оси, из Кунцева в ГИН — институт геологии, и обратно, беспрерывно обретаясь в зоне, где кафкианство, еще мною не узнанное и не читанное, празднует свои игры.
Памятники Сталину все еще продолжают стоять на площадях, мимо которых на следующее утро я еду в центр.
Оловянно чеканят шаг солдатики: у мавзолея меняется охрана. Движется очередь. Преодолевая тошноту, вхожу. Вид двух мертвецов, лежащих рядом, вызывает омерзение, касается живых едва ощутимой гнилью, разлитой в атмосфере и отражающейся профессиональной желтизной на лицах распорядителей. Столь бесстыдного обнажения тайны гроба не было даже у египтян: мумии закутывались в десятки пропитанных бальзамическими маслами покрывал, на лицо клали маску. Видно, что оба тела — Ленина и Сталина — и без того короткие, — укорочены до диафрагмы: отсутствующая часть покрыта красным бархатом. У Сталина лицо сплошь побито оспинами, усы рыжеватые, как два пучка, вырванные из сапожной щетки, мундир генералиссимуса с бляхами орденов кажется малым, как у ребенка, нарядившегося на маскарад: вероятно тело усыхает. Нет ничего противоестественнее, чем обнаженное мертвое лицо, обреченное раствориться в забвении, чтобы сохранить дух: оно, как чучело, принадлежащее к виду человекообразных животных. Вся мистика и таинство египетских бальзамирований здесь бездарно и грубо скопирована в каком-то бытовом безумии. Как рогатое чучело оленя украшает гостиную, так эти два куколя украшают страну, но им еще и поклоняются. Бальзамировавший их доктор бальзамических наук, по сути, обыкновенный набиватель чучел, набивший руку на потрошении вождей, властвовавших полумиром, профессионально владеющий умением подавлять в себе отвращение, копающийся во внутренностях и весь ужас своего ремесла прикрывающий звучным именем — патологоанатом — вот истинный и таинственный герой, стоящий за всеми этими макабрическими зрелищами. И толпа, шеренгой извивающаяся к мраморному склепу, привычно включает это зрелище между посещением ГУМа и Большого театра. И под минутной печальной гримасой, в глубине подсознания скрывается ликующий, столь же минутный прилив жизненных сил: вот лежат всесильные мира, которые раздавить меня могли, как мошку, а я жив и гляжу на них сверху вниз, на эту падаль, и в этом скрыта справедливость этого жизненного мгновения.
Дядя Сема поздно вечером, после моего рассказа о посещении мавзолея, подвел итог этому мероприятию еврейским анекдотом, рассказанным вполголоса в окружении деревьев его маленького дворика:
— Старый еврей со своим внуком в мавзолее указывает на Ленина: "Ды зейст дейм ройтн? Эр от баймир цигенемен дыс ганце гелт, ди миел… — Видишь этого рыжего? Он у меня забрал все деньги и мельницу.
— Гражданин, — говорит ему распорядитель, — отдайте последний долг и проходите".
"Ди зейст, — говорит внуку старый еврей, — их бын им нох шулдиг…" — "Видишь, я ему еще должен".
Вот уже четыре месяца, как скинули кумира с пьедестала, обозвав его культом личности, а он все еще торчит во всех нишах бюстами, мозолит памятниками душу, жаждущую возмездия.
Продолжение следует