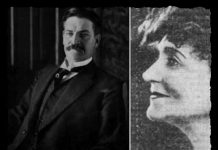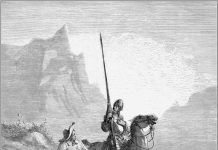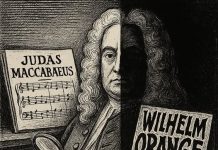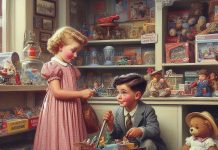Несмотря на эпидемию, в Израиле в эти дни проходит традиционный месячник ивритской книги. Без обычной помпы, без традиционных книжных ярмарок в городах, но с множеством скидок и даже презентациями новых книг — по большей части, в интернете. А новинок за последние месяцы в стране вышло немало — как в области художественной литературы, так и в жанре нон-фикшн, то есть мемуаров, биографий, монографий и научно-популярных изданий
Петр ЛЮКИМСОН
"Не успели мы открыться, как образовался наплыв покупателей, — рассказал корреспонденту "НН" Амос, продавец магазина сети "Цомет сфарим". — Такое ощущение, что народ очень соскучился по бумажной книге и охотно ее покупает. А ведь совсем недавно говорили, что она вот-вот исчезнет".
Сегодня мы решили познакомить вас с некоторыми книгами, представленными израильскому читателю в минувшем июне.
КНИГА ПЕРВАЯ: ТАЙНЫ "БЮРО 06"
"Бюро 06" ("Лишка 06") — так назывался специальный отдел израильской полиции, созданный для подготовки дела Адольфа Эйхмана. В его штате состояли около 40 человек — 12 следователей, переводчики, техники и т.д. Работа отдела вплоть до составления обвинительного заключения велась в глубокой тайне: сотрудникам в течение всей рабочей недели не разрешалось даже выходить из здания. В субботу они получали отпуск, но даже супругам не имели права рассказывать, чем именно занимаются в служебное время.
К 60-летию захвата и суда над Эйхманом Музей истории полиции ("Бейт морешет миштара") подготовил книгу, которая так и называется — "Бюро 06". Выпущена она тиражом всего в тысячу экземпляров и предназначена, в основном, для крупных библиотек и служебного пользования, поэтому сразу же стала библиографической редкостью. Презентация книги в "Бейт морешет миштара" получилась захватывающе интересной. В первую очередь потому, что на ней присутствовал один из ведущих сотрудников "Бюро-06" и, соответственно, главных героев книги — подполковник полиции в отставке Михаэль (Мики) Гольдман-Гилад. Ему уже 95 лет, но, несмотря на почтенный возраст, он хорошо помнит все подробности тех дней. Да и разве такое забудешь!
Родился Михаэль Гольдман в Катовице и разделил судьбу миллионов других польских евреев. После многих перемещений из различных гетто и концлагерей, он в 1943 году оказался в Освенциме-Биркенау. Во время "марша смерти" умудрился бежать и нашел приют у местного жителя. В начале 1945 года Михаэль вступил в ряды Красной Армии, а в 1947-м на корабле "Атиква" отправился к берегам Палестины. Как известно, судно было перехвачено англичанами, и Гольдман вместе с остальными пассажирами оказался в лагере на Крите, где находился вплоть до провозглашения Государства Израиль. Вскоре после репатриации он приступил к работе в полиции, но в 1958 году подал в отставку.
— Мы с женой хотели иметь как можно больше детей, а на нищенскую зарплату полицейского прокормить семью было невозможно, — объясняет Гольдман-Гилад. — Но в 1960 году, узнав, что Эйхмана доставили в Израиль, я пришел в полицию, попросил вернуть меня на работу и подключить к этому делу. Меня взяли, поскольку я свободно владел ивритом, немецким, польским, русским и идишем. Последнее было очень важно, ведь многие свидетели злодеяний Эйхмана могли худо-бедно изъясняться на русском или польском, но родным для них был все-таки идиш.
Михаэль Гольдман-Гилад до мельчайших деталей помнит минуту, когда к нему в комнату для допросов ввели Адольфа Эйхмана. Тот бросил взгляд на его руку, увидел вытравленный на ней лагерный номер, но ничего не сказал. И Гольдман тоже ничего не сказал — по его словам, несколько секунд он просто не мог поверить, что этот плюгавый, до смерти напуганный человек и есть Адольф Эйхман, распоряжавшийся жизнью и смертью миллионов евреев.
Допрос Эйхмана велся исключительно на немецком языке. Перед каждым Гольдман проходил инструктаж, но общее правило гласило, что с Эйхманом следует вести себя так же, как с любым другим подозреваемым в убийстве. На него нельзя было повышать голос, чтобы потом он не мог сказать в суде, что дал показания под давлением. Допрос записывался на диктофон, потом его переносили на бумагу, на следующий день давали Эйхману ознакомиться с текстом и уже затем переводили на иврит. Михаэль лично провел пять допросов.
Общеизвестно, что на допросах Адольф Эйхман пытался представить себя простым исполнителем приказов, но Гольдман-Гилад еще в 1945 году пристально следил за ходом Нюрнбергского процесса, изучал его протоколы и точно, что это не так. Ну, а к 1960-му в Израиле уже было собрано немало архивных документов, однозначно доказывающих, что именно Эйхман отдавал приказы по уничтожению евреев и тщательно инструктировал подчиненных, как именно их следует исполнять.
Протоколы проведенных Михаэлем и его коллегами допросов наряду с показаниями свидетелей составляют солидную часть книги "Бюро 06". Как он вспоминает, мало было опросить свидетелей, нужно было еще добиться их согласия дать показания на процессе Эйхмана, а многие отказывались.
— Свидетели были уроженцами 18 стран, и так, по странам, их разделили между следователями, — рассказывает Гольдман. — Мне с учетом знания языков достались Польша, СССР и страны Балтии. Люди действительно поначалу не хотели ничего рассказывать, боялись, что им не поверят. В Израиле тех лет действительно не верили рассказам жертв Катастрофы, считали, что они придумывают страшные небылицы или преувеличивают. Среди показаний был рассказ Ривки Йосилевски, которую расстреляли вместе со всей семьей. Но Ривку только ранили, и она голой — перед расстрелом их раздели донага — выбралась из ямы и добрела до дома польского крестьянина, который согласился ее спрятать. Сейчас рассказ Йосилевски есть во всех школьных учебниках, а тогда ей отказывались верить.
В задачу "Бюро 06" входил также анализ и сортировка документов, касающихся всех лагерей смерти. Изучая их, Михаэль узнал, что его родители и сестра были убиты в концлагере в Бельцах 26 июля 1942 года — точно в день его рождения. Судьба старшего брата прояснится только спустя 17 лет: как оказалось, он вступил в ряды Красной армии, прошел всю войну, но в Израиль из СССР сразу выехать не смог.
После подачи обвинительного заключения Михаэль Гольдман-Гилад по просьбе прокурора Гидеона Хаузнера стал на время суда его личным помощником. И это тоже было непросто: с каждым рассказом свидетеля перед Михаэлем оживали страшные картины прошлого, и вряд ли стоит удивляться, что после окончания процесса над Эйхманом он свалился с первым инфарктом. Но прежде увидел своими глазами казнь этого чудовища и лично развеял его прах над морем со словами "Да исчезнут так все враги Израиля!"
А ведь у него и у других сотрудников "Бюро 06" были опасения, что суд не решится приговорить Эйхмана к смертной казни.
На презентации книги журналисты спросили Михаэля, считает ли он, что своим участием в деле Эйхамана замкнул некий круг и отомстил за гибель семьи.
— Этот круг невозможно замкнуть, — ответил он. — А что касается мести… Даже если бы его повесили шесть миллионов раз, это все равно было бы недостаточной местью. Мы не можем в достаточной мере отомстить немцам за то, что они с нами сделали, это может только Всевышний. Что касается моей личной мести, то ею стали мои пятеро детей и 12 внуков. Пусть они продолжают мстить дальше…
КНИГА ВТОРАЯ: НЕПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ ОБМАН
Одним из бестселлеров минувшего июня стала книга двух преподавателей Хайфского университета — доктора педагогики Тамар Альмог и профессора-социолога Оза Альмога — "Коль шикрей а-академия" ("Вся ложь академической системы").
Предыдущая монография супругов Альмог — "Поколение Y: так, словно нет завтра" — тоже привлекла к себе внимание, но выход "Всей лжи академии" поистине произвел эффект взорвавшейся бомбы. Каждая глава книги звучит как пункт обвинительного заключения нынешней системе высшего образования и академической науке, причем не только в Израиле, но и во всем мире.
В одной из глав на множестве примеров доказывается, что большинство преподавателей и ученых, работающих в университетах, уже давно не интересует научная истина как таковая. Главным для них является погоня за грантами от различных фондов, так как от них зависит материальное благополучие, да и престиж ученого: чем больше денег он привлечет для себя и для университета, тем больше его ценят. Как следствие — и это тоже доказывается в книге фактами, — многие научные исследования на деле носят псевдонаучный, а нередко и откровенно лживый характер, поскольку зачастую просто подгоняются под необходимый заказчику результат. Рано или поздно (чаще всего в области точных наук) ложь разоблачается, но к этому времени сфабриковавший ее "ученый" уже освоил выданный ему грант и занимается следующим "исследованием".
В то же время, пишут авторы, авторитет ученого в стенах университетов обычно измеряется количеством опубликованных им в научных журналах статей. Такой критерий, в свою очередь, порождает вал никому не нужных научных публикаций, 95% из которых не имеют никакого теоретического или практического значения и никем не читаются. Некоторые являются завуалированным или откровенным плагиатом, но поток научных публикаций почти в любой области настолько огромен, что этого никто не замечает. Многие профессора, которые значатся среди авторов этих статей, на деле не имеют к ним никакого отношения — их просто просят поставить под ними подпись "для авторитета". Часть уже давно не занимаются научной деятельностью и настолько закоснели, что даже не пытаются вернуться к науке. Но подписывать чужие статьи им не совестно.
В последнее время в мире стало модно включать в число авторов статьи израильского ученого — опять-таки для престижа и авторитета, и израильские профессора и доценты этим откровенно пользуются, наращивая число "своих" публикаций.
Отдельная глава книги посвящена индустрии изготовления и торговли курсовыми и дипломными работами, которая, по словам супругов Альмог, процветает во всех вузах страны. Во многом, с их точки зрения, это объясняется тем, что сегодня поступить в университет может любой человек, имеющий свидетельство о рождении. Критерии приема студентов опустились, что называется, ниже плинтуса, и есть немало студентов, попросту не способных к обучению тем или иным областям, и, по сути, покупающих дипломы.
Еще одним бичом современных вузов Тамар и Оз Альмог называют политизацию. Они подчеркивают, что выступают против любой политизации — как слева, так и справа, но почему-то большинство приводимых ими примеров касаются преподавателей с левыми, если не сказать, леворадикальными взглядами. Многие из них откровенно поддерживают бойкот Израиля, смыкаясь с движением BDS. "Нет ничего противозаконного в том, что преподаватели делятся со студентами своими политическими взглядами, — констатируют авторы книги. — Но они не должны это делать на лекциях и семинарах, то есть за счет налогоплательщика и самих студентов".
И все же главную проблему высшего образования и академической науки супруги Альмог видят в том, что она закоснела и безнадежно устарела.
"Казалось бы, — пишут авторы, — именно вузы должны выступать в авангарде науки и технологии, активно осваивая и внедряя различные новшества, но в реальности все, увы, обстоит наоборот. Многие вузовские преподаватели так и не освоили технологических новшеств, преподают теми же методами и средствами, что двадцать-тридцать лет назад. Но это совершенно не подходит для студентов, родившихся в эпоху социальных сетей и цифровых технологий".
Отсюда следует безжалостный вывод: современная система высшего образования изжила себя, и ее надо менять.
Авторы монографии предлагают, во-первых, отделить образование от науки ("Не всегда хороший лектор является хорошим ученым, и наоборот"). Во-вторых, привлечь к преподаванию современные методы коммуникации и свести к минимуму фронтальные лекции ("Любой студент может прослушать лучшие лекции на любую тему в интернете). А в-третьих, возможно, отказаться от самого понятия академической степени, которая давно утратила значение и превратилась в формальность. Обучение должно идти не на степень, а на специальность, и не вводиться, как сегодня, в жесткие временные рамки.
Остается заметить, что многие идеи Тамар и Оза Альмог вызвали отторжение у коллег, а их сторонники выразили опасение, что авторы могут жестоко поплатиться за издание подобной книги. Но ректорат Хайфского университета поспешил заверить, что выше всего ценит академическую свободу, намерен придерживаться этого принципа, и профессиональной карьере супругов Альмог ничего не грозит.
КНИГА ТРЕТЬЯ: БРЕЮЩИЙ ПОЛЕТ
"Граница позади. Стремительно набираем высоту — так, как отрабатывали десятки раз на тренировках. Как это здорово — наконец-то взмыть над землей после девяноста минут полета на низких высотах! Под нами — Багдад и река Тигр. А вот слева показался и ядерный реактор… В это время по нам отрывают огонь из зениток: снаряды взрываются почти рядом. Но для того, кто был под зенитным огнем на Голанских высотах и Суэцком канале и думал, что тебе вот-вот придет конец, это просто несерьезно. Зато какой потрясающий пейзаж внизу!
Я сообщаю по радио, что еще минуты две буду продвигаться вперед… Вижу стену… Ага, вот и купол! Сейчас мы его остановим. Нужно просто нажать кнопку… Нажимаю — и выпускаю две бомбы, каждая весом в тонну. "Измель-1. Чарли!", — сообщаю я по радио".
Перед вами цитата из только что вышедшей книги Зеэва Раза "Возвращение с Луны". Зеэв Раз — тот самый летчик, который был ведущим пилотом операции "Опера", в ходе которой в 1981 году взорван иракский ядерный реактор. "Измель-1" — таким был его позывной. А "Чарли" — кодовое слово, заменявшее фразу "Задание выполнено. Мы возвращаемся".
"Возвращение с Луны" — литературный дебют Раза. Он признается, что хотел начать писать давно, еще в армии, да все как-то руки не доходили. И подчеркивает, что его книга — не автобиография и не мемуары, а сборник воспоминаний, что совсем не одно и то же. Но это все же, конечно, и автобиография. Точнее, очень израильская книга об "обыкновенной биографии в обыкновенное время".
Зеэв Раз родился и вырос в кибуце Гава, которому посвящено немало страниц книги. Кибуцниками были его родители, кибуцниками были оба деда и бабки, и потому ему так важно было рассказать о том, какой это был особенный народ. Одним из главных слов в жизни кибуцника было "стыдно". Стыдно отлынивать от работы. Стыдно проявлять слабость. И не служить в боевых частях тоже было стыдно. Поэтому, оказавшись в призывной комиссии и попросившись на курс летчиков, Раз скрыл, что у него плохо с моторикой, из-за чего он в свое время перевернулся во время езды на тракторе и с тех пор у постоянно болит спина. И астму он тоже скрыл: понимал, что стоит только заикнуться об этом врачу, и вылетишь в "джобники", а это — стыдно! Потом из-за всего этого он едва не вылетел с курса пилотажа, но "едва" не считается — завалив несколько тренировочных полетов, Раз все же сумел окончить курс и сдать все экзамены.
Свой первый вражеский самолет — советский МиГ-21 — он сбил на второй день Войны Судного дня. Последний — это был уже Миг-23 — в 1982-м в небе над Ливаном. "Это было нетрудно, — замечает Раз. — Нам говорили, что МиГ-23 — супермашина, обладающая сверхвозможностями, но на деле это оказалось далеко не так".
И все же главным событием в жизни Зеэва Раза стала, безусловно, бомбардировка иракского ядерного реактора. Когда командующий ВВС Израиля Давид Иври сообщил, что поручает эту миссию ему, Раз увидел в задании некую символику — ведь в свое время именно Иври вручал ему погоны пилота. Затем последовал сбор команды и долгие тренировки. Самым молодым в команде был 28-летний Илан Рамон, которого Раз решил взять штурманом.
Перед вылетом состоялась встреча с начальником генштаба ЦАХАЛа Рафаэлем Эйтаном.
— Если попадете в плен, говорите все, что знаете, только останьтесь живы! — напутствовал их Рафуль, старший сын которого незадолго до этого погиб во время учебного полета.
Затем Рафуль вытащил из кармана финики, и раздал по одному каждому из участников операции.
— Привыкайте! — сказал он с присущим ему черным юмором. — В плену вам ничего другого не дадут.
Но в плен, как вы уже поняли, парни не попали. Правда, на обратном пути стало ясно, что они перерасходовали топливо, и Раз спросил Рамона, есть ли шанс дотянуть до Израиля. Рамон произвел подсчеты и ответил: "Почти возможно!" На "почти" они и долетели, и это было чудо. Впрочем, не единственное — чудес или, если вам не нравится это слово, необъяснимых и почти невероятных событий во время операции "Опера" произошло немало. Раз, к примеру, до сих пор не понимает, почему иракцы не послали на их перехват самолеты, а ограничились зенитным огнем, не причинившим никакого вреда…
В общем, книга получилась совсем неплохой. Из тех, которые обычно принято рекомендовать юношам, обдумывающим житье-бытье. Вот только нужны ли им такие книги? Зеэв Раз с горечью вспоминает, как однажды решил встретиться со старшеклассниками кибуцной школы, чтобы увлечь их карьерой боевого летчика. Перед началом лекции он запустил фильм о ВВС ЦАХАЛа, подготовленный армией, стал рассказывать и… наткнулся на совершенно пустые, равнодушные глаза юношей и девушек. Им это было неинтересно. Это уже совсем другие кибуцники…
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ: НИНДЗЯ БЕЗ МАСКИ
Любителям документальной литературы о спецслужбах и работе полиции однозначно рекомендуется книга "а-смуя: машеу ше эфшар лесапер" ("Тайный агент: кое-что, о чем можно рассказать"). До этой книги мало, кто знал, что в полиции есть спецподразделение "смуим" — тайных агентов, в задачу которых входит поиск и задержание особо опасных преступников. До недавнего времени подразделение было настолько секретным, что о его существовании знал только ограниченный круг высокопоставленных офицеров полиции. Если сотрудника "смуим" по какой-то причине задерживала полиция, ему было запрещено раскрываться и сообщать, где он работает и чем занимается. Обо всем этом и рассказывает в своей книге бывший сотрудник, а затем и командир этого подразделения Ави Блейер.
Вообще-то главная страсть Блейера — боевые единоборства, и известность среди израильтян он получил благодаря своей первой книге "Самооборона: это может каждый". Да и в "смуим" он попал во многом благодаря тому, что был мастером целого ряда боевых искусств, а чтобы работать в этом отделе, надо владеть особыми навыками: бесшумно двигаться, вести слежку в любой ситуации, вовремя обнаружить, если слежку установили за тобой, нейтрализовать и задержать любого, даже самого опасного противника.
Поступив на работу в "смуим", Ави Блейер принимал участие во множестве операций. В том числе, в поимке легендарного "взломщика из кибуца" Неэмана Дилера, убийцы и насильника Цви Гура. Участвовал он и в операции "Гнев Божий" — именно сотрудники отдела "Смуим" выслеживали убийц израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде 1980 года. Эти страницы книги читаются поистине захватывающе, но Блейер написал отнюдь не мемуары — он рассказывает также и о других операциях отдела, в которых сам участия не принимал. Разумеется, лишь о тех, которые допустила к гласности цензура. А рассказать пока можно далеко не все…
[nn]