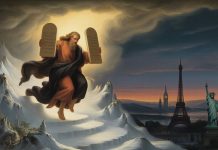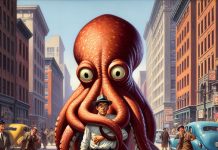Прошла любовь, ушла любовь… Но она еще может вернуться
ОТ РЕДАКЦИИ
Недавно мы сообщали, что в Нью-Йорке скончался наш постоянный автор, известный военный историк и журналист, автор книги "Евреи в войнах тысячелетий" Марк Штейнберг. Он писал не только на военные и исторические темы. Один из очерков, выходящих за рамки обычного его творчества, предлагаем вашему вниманию.
Марк ШТЕЙНБЕРГ
…Соглашайся хотя бы на рай в шалаше
Если рай в терему кто-то занял…
Владимир Высоцкий
* * *
Трамвай остановился. И на заднюю площадку поднялись две девушки с парнем. Был он рыжий–рыжий. И конопатый – прям как в частушке. А одна из девиц для контраста, что ли – поражала копной иссине–черных локонов. Она скользнула взглядом и отвернулась.
Я замер. Эти сияющие лазурные очи я видел уже. И не раз. Но, только у одной-единственной. Той самой – первой моей любви. Но ведь этого быть не может! Столько времени прошло и мест сменилось…
Трамвай остановился и девушки сошли. А парень остался. Я кинулся к нему.
– Рыжий! — в горячке рявкнул, – это Лиля? — Да, Лиля – испуганно пролепетал он.
И я выпрыгнул уже на ходу, благо двери открытыми оказались.
И догнал. Подойдя сзади, окликнул
– Лиля!
Она обернулась, недоуменно уставилась на меня бездонными глазищами.
— Я – Марк, не узнаешь?
— Нет… — пролепетала.
Ну, еще бы. Стоял перед ней загорелый дочерна офицер в выгоревшей летней униформе, пыльных сапогах, надвинутой на лоб фуражке. В руках – спортивная шпага, маска и сумка. Ведь в Ташкенте я оказался по случаю окружных соревнований и ехал-то трамваем в Дом офицеров, где и проходили эти соревнования.
Нет, не узнала меня Лиля… И тогда я спросил:
— Лиля, ты помнишь Алапаевск, вечерние курсы?
И улыбка осветила прекрасное лицо. Она вспомнила!
Вспомнила, наверное, худощавого парня в одежонке с чужого плеча, в самодельных валенках, в калоши втиснутых. Не знал я тогда, замечает ли, что нравится мне, нравится до явлений во снах. Что трушу даже подойти. Поговорить. Да не о чувствах. Где там! Но о чем–то будничном, хотя бы. Чтоб не выдать того, что даже мысли о еде забивало, уральский холод, до костей пронизывавший, превозмогало чувство это. Шутка ли – первая любовь! На меня снизошла она в те голодные и холодные дни.
Но я не открылся, струсил. Унес в края далекие. Дни и ночи тяжкого армейского марша, однако напрочь вымели из памяти ее облик. Заменили его привалами – да не любви! Сегодня это зовется иначе. Сухим скрипящим словом секс. Словцо–то какое, неромантичное нисколько!
БУДНИ АЛАПАЕВСКА
А в Алапаевске не только его – ничего не было. Мечты разве что. Уж больно серым, нищим и безрадостным было существование в этом уральском райцентре.
Алапаевск, впрочем, поначалу казался огоньком во мраке военного безвременья. Попали мы туда осенью 1942 года. Мы – это я с младшим братом и мама. Почти полгода нам пришлось пробираться с лавиной отступающих войск из Молдавии по Украине. И осели наконец в уральском поселке Верхняя Синячиха. Посельчане были рабочими древнего сталелитейного завода и земледельцами, одновременно. Что, собственно, позволяло им выживать в условиях войны. Такой симбиоз, впрочем, типичен был для тогдашнего Урала: среди полей-огородов высились цеха, домны, мартены. Их число умножилось значительно за счет вывезенных из оккупированных областей.
Поселили нас в избе Петра Шабашова. Теснотища и духотища получились невероятные. А тут и зима вскоре, уральская, лютая. А «удобства» — за избой, в огороде. А одежонка-то, ну совсем негодная для зимы этой. А кушать хоцца (местный диалект!) нестерпимо.
Как-то просуществовали до весны, когда узнали, что в райцентре Алапаевске оказались мамины брат с сестрой. Туда были эвакуированы той страшной осенью. Вроде обустроились, жизнь терпима. Зовут нас. И, как понимаете, устремились мы туда немедленно. Тем более что родные уже флигелек на окраине высмотрели, где нам поселиться. Худой был флигелек-то, по весне не заметили и радостно туда въехали. Зимой оценили, да поздно было менять.
Мама сразу же работать пошла. И я вскоре на военный завод устроился. Там 15-летних парнишек как я, полно было. Стал учеником клепальщика: собирали передки для 120 мм минометов, к которым они и цепляются. А уж передки потом — к лошадям. Или к автомобилям.
Технология сборки элементарная и я вскоре уж стал самостоятельным клепальщиком. Получил хлебную рабочую карточку. За нее, впрочем, вкалывать приходилось несусветно. Сегодня не верится как-то, что возможно такое. А ведь было! Тяжело-то было всегда – 12 часов в сутки с двумя перерывами коротким. Нагрузка предельная, казалось бы. Да нет! Предельной была так называемая «пересменка». Когда вечерняя смена становилась дневной и наоборот. Так вот, чтобы это произошло, обе смены вкалывали по 18 часов. Затем – 6-ти часовый передых и снова клепай. Естественно, в эти 6 часов никто из цеха не уходил. Валились детки как подкошенные на теплый шлак и засыпали мгновенно. Не часто, скажу я вам, в моей не комфортабельной в общем-то жизни, попадалась такая желанная и уютная постель, как куча этого шлака.
Зато – карточка рабочая! И еще иногда из жратвы кое-чего перепадало сверх нормы. Как же хотелось все это съесть до крошки. Но помнил, помнил замызганный неумытый, в рванье одетый подросток – дома очень голодный младший брат. И отделял от пайки кусок, газетой обертывал, за пазуху прятал. А глаза братишки, когда вытаскивал этот кусочек!.. Потом в моей жизни бурной ордена, медали были и другие награды. Но не было награды выше, чем те братские глазенки.
Так и шли сутки, неделя за неделей. Потихоньку–понемногу к труду каторжному, к существованию нищенскому я привык. Заметил, кстати скажу, что и потом я привыкал к такому к чему и привыкнуть–то, ну, никак невозможно! Невозможно, нереально, потому – ад кромешный без выхода! Ан, нет! Находил я выход, находил! Теперь понимаю умишком своим не убогим, Он мне помогал! Потому что другую Он задачу для меня намечал. Вот Он и выводил, вытаскивал из ситуации кромешной.
В этом же, пожалуй, плане, прозвучала однажды по громкой связи команда: вызывали меня к начальнику цеха. Я встревожился. Уж не случилось ли чего с мамой или братишкой. В кабинете начальник цеха Николай Омельченко пригласил садиться и спросил:
— Ты, браток, мне сказали, парень грамотный. Пишешь красиво, рисовать умеешь, стишки сочиняешь. Правда?
Я подтвердил. Омельченко подвинул газету и сказал:
— Перепиши заголовок.
Я переписал.
— Добре! А перерисовать картинку можешь? — показал на карикатуру.
Я перерисовал.
— Ну молодец! — разулыбался начцеха, — слушай сюда…
А дело было весной 1944 года, когда фронтовая обстановка стала на рельсы Победы. Когда страна уже вроде бы воевать научилась. Когда оружия заводы выдавали столько, что даже наши горе-командиры не успевали его потерять. Это и в цеху чувствовалось: пересменки не стали по 18 часов гнать. Придумали полегче.
Начальник цеха сказал:
— Надо сделать наглядную агитацию. Ну, плакаты разные, боевые листки, стенгазету и еще чего. Из парткома звонили, чтобы от каждого цеха выделить человека. Я решил тебя выделить. Ты не бойся – карточка и все такое у тебя будет, как у рабочего. А ты станешь эту самую наглядную агитацию клепать. Тьфу! Не клепать, а рисовать. Я тебя не обижу. Главное, чтоб не хуже чем в других цехах, чтоб меня в партком не тягали. Договорились?
Ну куда деться, согласился я, конечно.
— Тогда иди в партком на инструктаж. Скажешь, я тебя назначил этим самым, кто у них называется, не знаю как. А мне потом доложишь, чего тебе надо – краски, бумагу. Если они не дадут, мы сами найдем. Ну, иди.
И руку мне пожал.
В парткоме меня проинструктировали кратко (зато, потом — часто и многословно) и направили на склад. Там выдали два рулона обоев, банку краски и кисть. Для лозунгов это сгодилось. Ну, да что там! Остальное добывалось где-то по указанию начцеха.
И пошло-поехало! Он угадал, определив меня на эту ипостась. И наделил всем необходимым для такой деятельности. Лозунги повисли, герои труда прославлялись в «Молниях» и стенгазетах. И везде, где удавалось, я совал что-либо рифмованное. Потому как стихи потоком сознания у меня были, даже в те голодные, холодные и беспощадные годы.
«Вася Маркин точит мины по две нормы с половиной! Вася Маркин – наш герой! Фрицев бьет осколков рой!» Примитивно, не правда ли? Но в те времена легендарные, строки эти воспринимались с энтузиазмом. Ну, а Вася – он гоголем ходил, норовя почаще у плаката появиться.
Нечего говорить, работа такая для меня была на порядок легче клепания минометных передков. Физически, в первую очередь. Ну, о творчестве и говорить не приходится. Сотворение плакатов и стенгазет – занятие примитивное с точки зрения творчества. А клепание передков? Нет вопросов! Жизнь похорошела, несмотря на войну.
В эту ситуацию вошла еще вечерняя учеба, куда я определился. Открылись в Алапаевске курсы такие, что за полгода можно было 9-й и 10-й классы пройти и получить справку о среднем образовании. Как понимаете, это стало для меня возможным ввиду перехода на интеллектуальную работу.
На курсах собрались юноши непризывного возраста. Но, в основном, девушки. По три на каждого парня. С непривычки, в глазах рябило от девичьего засилья. Хоть и одежонка изыском не отличалась ни в цвете, ни в покрое. Ну да, кто в те времена скудные хоть представление об изыске имел!
Но в этой толпе выделялась Лиля. Как тюльпан среди травы пожухлой. И не только внешне, но и интеллектуально, насколько я был способен судить в ту пору. В общем, как в песне про капитана: «И влюбился как простой мальчуган…» И хоть не простым я был мальчуганом, но обожал ее на расстоянии, не смея сообщить о чувствах, мною овладевших. Да и времени в обрез было. Не успел справку получить, как в военкомат вызвали и в силу справки этой о среднем-то образовании – направили в военное училище.
В ЗЛАТЫХ ПОГОНАХ
Хотя конец войны с Германией вполне очевиден был. Но, на роду, видимо, написано было мне офицером стать. И стал – осенью 1948 года погоны златые взобрались на плечи и более 30 лет их «украшали». Но тогда я об этом не думал, ошарашен был приказом, согласно которого «распределили» меня в Кушку. А училище окончил я по первому разряду, шестеро таких молодцов выпускалось. Главной и единственной льготой для нас была возможность выбрать место службы. Естественно, не Кушку же я выбрал. Кушка считалась одним из самых плохих гарнизонов в Советской Армии.
Прибыв туда, быстро убедился, что поговорка офицерская «Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут» не только реальности соответствует, но отнюдь не охватывает всей тяжести службы в этой бывшей крепости царской. Возведенная на самой южной точке империи, пустыней каракумской окруженная, была это крепость местом ссылки для офицеров. И при Советах – неофициально таким же осталась местом. Климат – изнуряющий, служба – тяжкая. И к этому – тоска смертная, сознание, что лучшие годы жизни ты губишь в этой крепости. Немногим отличалась такая жизнь от заключения. Не было, просто не существовало личной жизни – развлечений, театров, парков, девушек, наконец. Оставалось одно – пьянство, гомерическое воистину.
А если не пьешь – ни компании интересной, ни общества женского, ни занятий каких-либо не военных — ничего такого, что юность сопровождает. Как писал я в те поры:
…Мелькают как шальные, даты –
Ненужных дней калейдоскоп
Дома, казармы и солдаты,
Объяты зноем и тоской…
В Кушку с нашего выпуска попал еще и Игорь Соколов, очень красивый, атлетически сложенный блондин. На последнем курсе он, в основном, пребывал на спортивных сборах и соревнованиях. Потому как был мастером спорта по снарядной гимнастике. Учился походя, в казарме и на занятиях появляясь изредка. Ну и оценки на выпускных получил минимальные. Вот его и запулили в Кушку, со злости, наверное.
Мы поселились вместе в глинобитной мазанке у дежурной по станции Маши. В комнатку с трудом втиснули две койки и тумбочку между ними. Ни стола, ни стула, ни шкафа. Обмундирование – на гвоздях по стенам, остальное барахло в чемодане под койкой. Окошко – чуть больше корабельного иллюминатора. Все удобства – колонка водопроводная да фанерная будка уборной. Освещение — керосиновая лампа. Вот здесь-то и проистекало время нашей молодости, от службы свободное.
СПОРТ КАК ПУТЬ НА ВОЛЮ
И как-то Игорь сказал:
— Слушай, мы же от тоски загнемся. Или тоже бухать станем как они. У меня есть идея – надо из Кушки почаще уматывать, все равно куда. Главное, не торчать тут от отпуска до отпуска. А знаешь, как? Мы же спортсмены с тобой, все-таки. Значит, если серьезно займемся, поедем на всякие сборы, соревнования.
— А ты, брат, не думаешь, что таких умных в гарнизоне хватает? И места в секциях давно заняты. И кроме того, ты же гимнаст, по мастерам работал. А я – самбист. Ты же знаешь — соревнования по самбо запрещены. Так кому я тут сдался с этим самбо? Годится только с ног сшибать всяких подонков.
— Давай не падай духом преждевременно. Пошли в ДОСА, там сегодня тренировки местных «чемпионов», мать их так! Неужели для нас не найдется дыры в строю!
И пошли. Прав оказался Игорь. Ну, его-то со значком мастера сразу схватили. Там в секции гимнастической такой птицы и не видывали. А он – сразу на брусья! И показал им каскад переворотов стоя.
А я увидел как на фехтовальной дорожке скрещивались клинки и вспомнил, что в училище интереса ради целый месяц занимался этим видом спорта. Возглавлявший секцию лейтенант спросил: — Вы, старший сержант, всерьез намерены? Тогда бросайте свои драки хулиганские и займитесь фехтованием – спорт аристократов. У нас даже команды французские: Ан гард! Эн аван! Туше! (Закройсь! Вперед! Удар!).
Необходимо пояснить, что в те времена – 1947-1948 гг. в училищах офицерских стали вводить хорошие манеры, проповедовать высокое значение звания «офицер», честь золотых погон. В столовой демонстрировали как салфеткой пользоваться, в какой руке вилку держать и др. А курсантская братва, в основном – фронтовики, на это реагировала как у Зощенко – индифферентно, ваньку валяли. Так что, не впечатлило меня фехтование со всеми его французскими командами. И правильно. В суете бытия умение защищаться было на порядок функциональнее. Потому как не на дуэль же вызывать! А дать так, что бы летел мелкой пташкой, очень даже уважалось.
Но, вот в кушкинском спортзале не обреталось самбо, хоть плачь! И пошел я к дорожке, где клинки звенели, сшибаясь. И оказалось – не зря! Выяснилось, что сшибаются клинки только эспадронов и рапир. А вот шпаги-то и нет в этом ассортименте. Шпага самый тяжелый и сложный фехтовальный инструмент. Тяжелый – по весу физическому. А сложный из-за того, что поражаемое пространство от гребня маски до носка туфли. Попробуй, защитись!
Да и вообще фехтование можно отнести к самым тяжким физически видам спорта. Если в большинстве спортивных баталий участники раздеваются чуть не догола, то на дорожке – наоборот. Надеваешь маску, впереди сетка металлическая, затыльник сзади. Костюмчик фехтовальный и плотен и тяжел. На вооруженной руке – перчатка с крагой. А и кроме всего, фехтование спорт боевой. Противник имеется. Как на ринге или на ковре борцовском. Вот и на дорожке – твоя победа не только от тебя зависит.
В кратком прошлом опыте фехтовальном оружием моим была шпага. А в кушкинском спорте владеющих шпагой как раз и не имелось. Что и требовалось доказать. Почему бы мне в Д`Артаньяны не записаться?
Впрочем, как тому же Д`Артаньяну, пришлось мне мушкетеров подыскивать – не будешь ведь сам с собой фехтовать! Сагитировал двоих, умерено пьющих лейтенантов. Упросил тренера позаниматься с нами. Тренером, кстати, оказался офицер поистине уникальный, в конце ХIХ века родившийся, юнкерское училище окончивший, в Первой мировой и Гражданской войнах участник, от репрессий уцелевший и в Отечественной выживший. Майор Дмитрий Люлин. Такого офицера и в столице отыщешь не вдруг. А в Кушке – сделайте одолжение!
Но Люлин уже за полвека шагнул, да и служебные дела его никуда не делись. Так что пришлось мне, любимому, и хитрости фехтовальные постигать, и спарринг-партнеров обучать. Чего не сделаешь, однако, ради такой желанной цели!
Более того, еще в училище проявились у меня недюжинные стрелковые данные, откуда взялись они у типичного еврейского юноши Бог весть! Но стрелял я из всех видов оружия без промаха. И в Кушке решил к спортивным стрелкам примазаться. Вот уж в ком дефицит не ощущался в гарнизоне. Но я выбрал дуэльную стрельбу – сложный вид. Оружием служил штатный пистолет. Дело решал первый выстрел по ростовой мишени, изображавшей противника. Мишень ребром к тебе. Повернется фронтом – стреляй, упредив противника. А пистолет — в кобуре! Вытащить, зарядить, прицелиться, выстрелить! Требуются и нервы прочные, и навык отработанный, и глаз отточенный. И все это нашлось у меня. Кстати, желающих стрелять дуэльную оказалось мало. И уже вскоре вышел я в лидеры. Что и требовалось доказать!
Однако в Ташкенте на окружной спартакиаде ТуркВО оказался не благодаря своим стрелковым достоинствам. В 1949-м сбылись расчеты Игоря Соколова и мы покинули богоспасаемую крепость. Он как гимнаст, естественно. А я в составе фехтовальной команды, со шпагой под полою, фигурально говоря. И более двух недель нарадоваться не мог, попав в обычную жизнь хоть и далеко не самого цивилизованного города в стране. Но, после Кушки он мне казался средоточием культуры, развлечений и прочих радостей, которые были вполне обыденными для его обитателей.
А девушки! Глаза разбегались и слюнки текли от их количества, нарядности, привлекательности и т.д. и т.п. Почти каждая впечатляла обитателя южных Кара-Кумов как Елена Прекрасная мифических троянцев мифических. Да что там говорить!
Пролетели, однако, вожделенные деньки, я нафехтовался всласть и шпагой, и всеми органами чувств 22-летнего парня. До финала не дошел, естественно. Но и в самом хвосте фехтовального сообщества не оказался. В золотой средине, так сказать, пребывал. Да и другие кушкинцы на пьедестал не взобрались тоже. Кроме Игоря, получившего бронзу. Он остался в Ташкенте для подготовки к всеармейской олимпиаде. Мы же отправились восвояси.
Но в октябре окружные стрелковые соревнования наметились. А я в команде нашей дивизии представлял дуэльную стрельбу. В Ташкенте же перед соревнованиями — установочные сборы. А если займешь не дальше 3-го места, можешь в команду округа Туркестанского попасть, шутка ли!
Не попал, однако. Добыл шестое место и по домам.
ПРОБЛЕМЫ ПЛАТОНИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ
А летом опять спартакиада. И я со своей верной шпагой снова оказался в «Столице дружбы и тепла», как нарекли Ташкент после землетрясения 1966 года. Но, до тех времен была еще вечность – целых 22 года, в которые уложилась бедная моя молодость, прихватив и зрелости пучину.
Вот на тех-то состязаниях выпала мне бронзовая дорожка – 3-е место в шпаге. И еще целый месяц отрабатывал я любимый свой прием – «флешатак» – «атаку стрелой» в переводе с французского. На всеармейскую спартакиаду однако меня не взяли. Но сожаления по этому поводу растворились без остатка в горячей волне любви. Да-да! Самой пламенной и искренней, какая только воспета бардами всех времен и народов. Голубоглазое чудо полюбил обыкновенный лейтенант, да еще с «конца географии» свалившийся. Написал тогда:
…Твоих бровей волшебные серпы
Моею радостью и горем стали.
И падали надежды как снопы,
Подкошенные этой милой сталью
Твоих очей чудесный перламутр
В кольце ресниц как в дорогой оправе
И взгляд лукав, пленителен и мудр
Он в душу мне проник чарующей отравой
Твое лицо – далекая звезда,
Прекрасная, как имени значенье,
Передо мной сияет и тогда
Когда кончается коротких встреч теченье…
Стихами ли, а их было немало или еще чем, пленил, но Лиля взаимностью ответила. Да еще как! Жениха отстранила, кандидата наук по имени Михаил. Он, правда, попробовал возникнуть в парке, перед излюбленной нами скамейкой. Возникновение, однако, кончилось неадекватно, так сказать. Нашел, кому грубить, интеллигент! Ну и покинул аллею со скоростью, намного превысившей первоначальную.
Но, скамейка та заветная на аллее уединенной, как уже вскоре выяснилось, оказалась почти единственным пристанищем влюбленных. Потому как пойти еще куда-нибудь мы не могли. Из-за отсутствия вожделенного «куда-нибудь». Ну не было у нас пристанища в этом городе. Я вообще беден был как церковная мышь. Даже штатской одежонкой не обладал, в форме на свидания являлся. Слыхал, правда, что можно пристанище приобрести. Да не на что.
Вот такая любовь. Платоническая. Поцелуи да объятья. Да жар в крови нестерпимый. Страсть двух юных созданий. И желания, желания, черт меня побери! Нестерпимые желания. И по домам. Отбой!
…Улицы последний поворот
В теплый сумрак твоего проулка,
Где кончалась долгая прогулка
У запретных для меня ворот…
Было все это поздней осенью 1951 года. Спартакиада заканчивалась. Где-то уже в Америке попалось мне вполне научное исследование о влиянии секса на спортивные результаты. Там утверждалось, что влияет полноценный секс вполне положительно. Приводятся результаты тестирования, подтверждающие этот вывод.
Сожалею, что не пришлось оказаться объектом такого исследования. В моем случае на спартакиаде 1950 года абсолютно зафиксировать можно было отрицательное влияние ситуации. Когда горишь огнем желаний, сгораешь, фигурально говоря. А потом выходишь на дорожку неутоленный, и хотя ненавидишь противника всей душой, но шпага твои эмоции учитывать не желает. Потому ли, черт его знает, но с трудом я не вылетел из десятки. Хотя вполне готов был в первой тройке утвердиться. И на сборах остался бы. И с Лилей не расстался бы. И, наверное, сгорел бы как свеча от желаний.
Но, мечты долой, а завтра поезд. И вдруг на последнем свидании Лиля сказала так просто:
— Я приду завтра на вокзал…
Сказать, что был я потрясен – меньше ноля. Впервые это было ее собственное желание продемонстрировать наши отношения публично. В ту ночь я почти не спал. Еле дождался утра. Покидал свое нехитрое снаряжение в вещмешок, обмотал бинтом клинки и – к машине.
На перроне вертелся как флюгер. Она пришла за полчаса до отхода поезда. И подошла прямо ко мне, к нашей команде. Вся команда и офицеры, и солдаты были абсолютно ошеломлены. Потому как не видывали, наверное, прежде такой красавицы. Боже, до чего же была хороша Лиля в то утро! Под копной иссине–черных кудрей лучились огромные голубые глаза. Точеная фигурка. А ножки! В общем, цвет кушкинского спорта, как по команде, вытянулся во фронт.
И я побыстрей увел свою красавицу от этого строя подальше. Мало ли что! Нравы этой братии известны мне были досконально. И мы целовались вне пределов их видимости. И обещали-клялись, что не будем больше расставаться. Вот приеду я в следующий раз и… Чем бы было «и» это, не представляли себе. Но мечтали и клялись…
В вагоне, естественно, обступили: кто такая, как зовут, да где раздобыл такую кралю? Не цыганка ли? Докладывать подробно не стал. Только сказал, что еврейка. Это вызвало великое удивление аудитории. Кто-то, правда, попытался вякнуть неодобрительно. Но ребята знали мою реакцию на такого рода высказывания и сами его одернули.
ПИК ПОЛЯ РОБСОНА
Весной 1951-го физрук кушкинской дивизии сообщил нам с Игорем, что во Фрунзе будут проходить сборы инструкторов горной подготовки. Так, не будем ли мы?.. Еще бы! Всегда готовы! Хотя я настоящие горы видел лишь в отдалении. Игорь тоже. И, несмотря на возмущение непосредственных командиров, мы отправились.
В Ташкенте пересадка была, часа четыре. Позвонил Лиле. Она пришла, и я отдал ей стихи, в последней разлуке написанные. Вот они:
За горизонтом есть страна чудес.
Там рыцари, поэты и драконы,
Там лешие раскачивают лес,
Красавицы там царствуют законно.
В той сказочно–загадочной стране
Ты будешь расколдованной царевной.
Садись же в поезд и доверься мне,
Нас манит тайна, и любовь, и ревность.
В чудесном императорстве твоем
Я – лишь игрок, поверивший везенью.
Поедем в сказку! Только мы. Вдвоем.
В недолгий праздник радости весенней.
Души твоей и тела красота
В моей судьбе, сурово приземленной,
Сверкнет на миг как детская мечта,
Или мираж в пустыне раскалённой…
Садиться в поезд и ехать в сказку она и не подумала, естественно. Но сказала:
— Будешь возвращаться, задержись на день-два. Надо решать. Я так больше не могу.
Я тоже не мог. С тем и расстались.
Базой сборов было Ала-Арчинское ущелье в горах Заилийского Ала-Тау. Что говорить, все эти ботинки с триконями, «кошки» с «котятами», крючья скальные, ледорубы да веревки отродясь не видывал! Как и серпантины да провалы. И много еще чего, вполне опасного и трудного. Но куда денешься… Сами вызвались, ну и тянули. Не отставая от коллектива, так сказать.
А как совсем уж восвояси собрались, привезли нам на базу гипсовый бюст. И приказали водрузить на безымянной вершине не ниже третьей степени трудности. А назвать вершину собирались в честь выдающегося американского певца Пиком Поля Робсона. Вот его-то бюст и надо было закинуть на эту высотку. Главное тут было, что он относился к СССР с большим пиететом, то ли не замечая, то ли мирясь со всеми ужасами тогдашнего режима. Ну и как же такому известному и полезному человеку не презентовать целую гору на Памире!
Нашего мнения, естественно, никто не спрашивал. Подходящую вершину без имени наш руководитель майор Рацек отыскал в справочнике. Вопрос лишь в том, как тащить туда этот неподъемный бюст. Рацек принял кесарево решение: туловище обломать, оставив лишь голову черного «соловья». И пошли! Голову, как вы догадываетесь, волокли по очереди.
На вершине, однако, нашу команду ожидал сюрприз. В виде сложенного из здоровенных камней тура. Еще большим сюрпризом оказалась консервная банка, прикрепленная к туру. Потому как в ней записка была, гласившая, что гору покорила группа московских альпинистов, назвавшая ее «Пик Мюд»: Международный Юношеский День!
Разочарование наше было беспредельным. Еще бы, куда теперь тащить эту неподъемную башку? Но майор Рацек и тут проявил выдающиеся компетентность и хладнокровие. Он постановил — поскольку никакого Пика Мюд в официальном справочнике не значится, то и нечего тут! Записку из банки сожгли к чертям собачьим, заменив сообщением про Пик Поля Робсона. Евонную же главу водрузили на вершину тура, забетонировав принесенным с собой цементом. И увековечили, сфотографировавшись многократно у подножья монумента.
И труды наши вознаграждены были на всю катушку. В газетах напечатали. Певец телеграмму прислал. Сам Командующий войсками ТуркВО генерал армии Иван Ефимович Петров объявить благодарность изволил. Народ был счастлив. Мы – тоже.
На фоне всеобщего ликования, я без особого труда выклянчил у майора Рацека разрешение задержаться в Ташкенте на трое суток. Рассчитывал за это время развязать Гордиев узел наших с Лилей отношений. И прав оказался.
РАЗВЯЗКА
— Я папе все доложила, — сказала Лиля и засмеялась, — видишь, уже твои выражения усвоила.
— И что он ответил?
— А он все знает, ему Миша доложил. Тебя каким-то бандитом представил из НКВД. Но папа и сам почти обо всем догадывался. По мне судил. И не в восторге. И маме рассказал. А она – как папа.
— Так что теперь будет? Я так надеялся, что все решится.
— Правильно надеялся. Папа просит тебя прийти завтра после работы. И я думаю, все будет хорошо, — сказала Лиля и критически осмотрела мой наряд. — А у тебя больше нечего надеть?
Ну, видок у меня конечно не больно для визитов годился. Да еще важных таких. По сезону одет был, в ХБ (хлоп-бум) помятом, в ремнях, в сапогах. И с собой другой одежонки не привез. Кроме кителя и не имелось у меня ничего. Да кто же китель в июне ташкентском надевает?..
Сказал, что наглажу форму.
– И постригись, – сказала она и погладила кудри мои роскошные. Семь волн. Смерть девкам. На том расстались.
К вечеру дня следующего, выглядел как на смотру. «Стрелки» на брюках, на рукавах, пуговицы и пряжки надраены, сапоги – зеркалом. Парикмахеру в гарнизонной гостинице сказал, что жизнь моя теперь от его мастерства зависит. В общем, лейтенант с журнальной обложки. И предстал перед Его степенством, папой ейным. И мамой. За накрытым столом восседавшими.
Папа – профессор университетский на профессора и походил. Мама – Лиля в зрелости. Радушно так за стол пригласили. И угощали вполне доброжелательно. Я духом воспрянул.
После десерта, однако, папа приступил к допросу. Происхождение мое одобрил. Намерения – тоже. Жизненную позицию – вполне. А потом…
— Вы где служите молодой человек? – спросил папа.
— В Кушке.
— А что это за место такое?
Я ответил добросовестно и подробно.
— А есть ли у вас шансы в ближайшем будущем уехать из этой Кушки?
Я не менее честно сказал, что шансов никаких. Пока, по крайней мере. А дальше – кто знает.
— И вы Лилю, мою дочь, в такое место проклятое тащить собираетесь? – зловеще прорычал папа.
— Но она же знает все про Кушку. И согласна уехать со мной туда. Если поженимся. Я же пришел просить ее руки у вас. Мы любим друг друга…
И ответил папа…
— Вы что, в крепость Лилю запереть возжелали? Декабристку из моей дочери сделать? Не выйдет! Через мой труп! Забудьте Лилю, забудьте!
Вознесся над столом рыхлый и пузатый. Руками замахал. И прочел пламенную лекцию о чести и совести молодого человека, тем паче – офицера. А еще более тем паче – еврея! Ну что там – лекции профессор читать умел.
Я подумал, хоть не до юмора было, что так гневно и праведно вести себя должен отец, у которого этот сукин сын соблазнил дочь, и жениться не соглашается, скотина. И мелькнула где-то на задворках шальная мысль. Что так и надо было…
А Лиля сидела как посторонняя. Будто и не о ней речь.
В общем, вышел я за ворота знакомые мокрый как мышь и злой как тигр. Куда только другие чувства подевались. Пуговицы драил, болван! «Стрелки» наглаживал! Лилю попросил не провожать. Успокоюсь, мол, и вот тогда…
«Вот тогда» — последняя встреча за несколько часов до поезда. Она заверила, что будет папу уламывать и к следующей встрече надеется… И я стал надеяться тоже.
А потом перестал. Видимо, всему на свете предел существует. Нет, не верьте, не верьте, ребята, в безответную любовь! И в почти безответную – тоже. Моя, к примеру, поэтапно сошла на нет. Как пел Муслим Магомаев: «…Прошла любовь, ушла любовь, по ней звонят колокола…» Зазвонили…
ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ
В 1991 году оказался я в Нью-Йорке. Освоил военную журналистику, радио и телепередачи. Главная тематика выступлений – военная история еврейского народа. Писал об этом книгу.
На эту же тему выступал с лекциями. Приглашали охотно: тема-то абсолютно неведомой была. Тем более, народ валом валил. Народ-то и был тем самым еврейским, о ком я докладывал и чьи деяния в войнах тысячелетий тщательно замалчивались во все времена и повсеместно. Вот и шли евреи о евреях же узнать такое, что гордость их поднимало. Мне платили. Маленький, правда, но доход.
Читал я такую лекцию в Еврейском общинном центре бруклинского Бенсонхерста. Наименован он странно — в честь Карла Маркса и его жены. Как выяснилось, однако, социалистический титан к этому Центру никакого отношения не имел. Нашелся еще один еврей с таким же именем, пожертвовавший доллары на его сооружение.
Итак, читал я лекцию. Потом на вопросы отвечал. А когда они иссякли, и я распрощался, организатор мероприятия сказал мне:
— Посмотрите, сзади женщина в инвалидном кресле сидит, слепая. Она очень просит, чтобы вы подошли.
Я подошел, поздоровался.
А слепая сказала:
— Марк, я тебя по голосу узнала! Марк, я же Лиля. Помнишь Ташкент, ты меня любил, я же Лиля. Ты не узнаешь? Неужели не узнаешь, Марк? Вспомни, Марк, лейтенант, вспомни! Ты же меня так любил, Марк! – почти кричала она.
И я окаменел. Передо мной была старуха, заполнившая рыхлым телом инвалидное кресло. На дряблом морщинистом лице черные очки. Руки венами обвиты. От былого ни следа. Развалины. А ведь мы ровесники почти.
Я ее успокоил, сказав, что узнаю. И выслушал одиссею. Тривиальную, в общем-то. Вышла замуж за Михаила, того самого кандидата наук. Он старше был лет на семь. Детей не нажили с ним. Нет уже Миши, умер от чего-то. В Америку приехала по вызову двоюродного брата. Заболела еще в Ташкенте, надеялась, здесь вылечат. Пока не получается. Вот и все, в общем.
Стала обо мне расспрашивать. Я отвечал лаконично. Уж больно хотелось свидание это завершить. Оно и оказалось последним. Никому о нем не рассказал.
Лиля умерла через полгода. Узнал случайно. Полное имя ее – Лилиана. По ней звонят колокола. И вот что странно! — в сердце иногда звонят тоже…