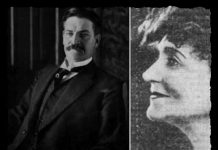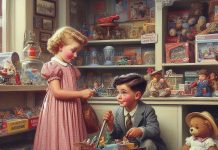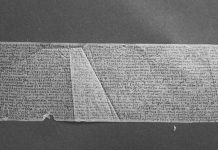Воля и неволя Капитолины Григорьевны
Захар ГЕЛЬМАН, Реховот
Когда Капитолина Григорьевна Миронова увидела на операционном столе тюремной больницы легендарного маршала Василия Константиновича Блюхера, избитого, со следами пыток, с вытекшим глазом, то поняла, что с этой секунды за ее жизнь нельзя дать и ломаного гроша. На дворе стояла осень 1938 года.
И все-таки она выжила. Мое знакомство с ней состоялось в конце 50-х годов. Впервые я увидел ее в одиннадцать лет. Тогда я учился в пятом классе и мой одноклассник Владик Иоффе, с которым мы жили в соседних домах на 6-й Парковой улице окраинного московского района Измайлово, повел меня к тете Капе на пироги. В те времена дети по имени и отчеству называли почти исключительно воспитательниц в детских садах и учителей в школах. Так было принято. К большинству взрослых дети обращались как «к дядям и тетям» вне всякой связи с родственным статусом. И тетя Капа тоже не приходилась Владику родной тетей. Но и чужой не была…
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Народная мудрость совершенно безапелляционна. Пословицы всегда верны, а от поговорок веет лукавством, хотя они подобны вещим снам – часто сбываются. По ним можно учиться жить как по стабильным учебникам… Сколько раз убеждался – сапожник ходит без сапог, шапочник без шапки, а у блестящих учителей нерадивые дети.
У тети Капы пироги получались как у заправского пекаря, хотя по профессии она была глазным врачом. В точном соответствии с поговоркой, у нее было неважное зрение. Я слышал, как она рассказывала отцу Владика, Михаилу Аркадьевичу, что почти потеряла зрение в печально знаменитом Ухтпечлаге, когда ее и еще несколько женщин за какой-то проступок заставили перетаскивать тяжеленные бревна.
Тетя Капа была своим человеком в семье Владика. Ее отец обращался к ней на «ты», хотя заметно было, что Нина Семеновна, мать Владика, в присутствии тети Капы тушуется, испытывая какую-то неловкость. Я тогда еще не знал всех перипетий семьи Иоффе и меня более всего поразило, что девичья фамилия Нины Семеновны была тоже Иоффе. Однофамильцы обычно редко женятся друг на друге. Ну ладно бы Ивановы, Петровы, Сидоровы создали брачный союз… А тут не самая распространенная среди нашего брата фамилия Иоффе. Хотя чего только в этой жизни не случается!
Родственником Нины Семеновны был весьма известный в свое время ученый и философ Абрам Моисеевич Иоффе (1881-1963), который вошел в историю под псевдонимом Деборин. Сообразно ранжиру тех лет, он считался крупным обществоведом. Его перу принадлежат труды, выдержанные в твердокаменном духе царившей тогда идеологии. Хотя ему также принадлежат статьи, несколько фрондирующий по отношению к тогдашнему мировозренческому кредо. Ему такое фрондирование позволялось в рамках, за которые он никогда не заходил.
Предполагаю, что Деборин состоял в близким родстве с семьей Владика, ибо даже он, мой приятель, в то время еще не будучи и подростком, был наслышан о «революционном прошлом дяди Абрама». На самом деле – и об этом я узнал, разумеется, намного позже – Деборин относился к числу многочисленных в советской истории «политических перевертышей», которых породил октябрьский переворот 1917 года, названный в одночасье «великой революцией». А.М.Деборин – бывший меньшевик, затем троцкист, далее, переобувшись, превратился в ярого борца с троцкизмом, а заодно с так называемым «религиозным мракобесием». Именно Владик разъяснил мне разницу между «атеистом» и «безбожником». Сообразно его «пониманию» (использованное им слово «понимание», запомнилось: ведь он употребил его для солидности): «атеист – просто неверующий человек, а безбожник – всегда воинственный дядя или тетя, которые могут врезать всяким там богомольным». Уверен, что такое определение мой приятель услышал не от дяди Абрама, которого называл «главным атеистом Советского Союза». Уже во взрослом возрасте мне стало совершенно очевидно — «главным» атеистом Абрам Моисеевич так и не стал. Всегда были поглавнее.
Деборина я видел единственный раз в жизни, но даже успел с ним поговорить. Вернее, не поговорить. а задать вопрос и получить ответ. Однажды, придя к Владику домой, я застал в сборе всю семью, тетю Капу и еще одного человека, наружностью напоминавшего мне отрицательных персонажей советских фильмов на революционную тематику. Это и был «дядя Абрам».
У Деборина был взгляд, который в первые секунды казался пронзительным. Вскоре он становился просто внимательным. Но мне казалось, что он смотрел на меня изучающе. Философам все интересно. И сегодня, вспоминая свое впечатление от внешности этого человека, я бы непременно использовал словесный штамп: интеллигентностью дышало его лицо.
Не думаю, что тогда я чувствовал «историчность момента». Но случаем все-таки воспользовался и задал профессору Деборину, академику АН СССР с 1929 года, «вопрос на засыпку»: «Можно ли доказать существование Б-га?». Ответ видного ученого меня, пятиклассника, на самом деле, не очень интересовал, но я был уверен, что таким вопросом я демонстрирую окружающим глубину своего мышления. Меня обязательно должны похвалить, и родители Владика с восхищением будут передавать моим родителям (они, естественно, были знакомы друг с другом) содержание«беседы» их сына с самим Дебориным.
Но Абрам Моисеевич, несмотря на все свои регалии, не читал чужих мыслей. Он просто ответил на заданный ребенком вопрос. Мгновенно и кратко. Даже очень кратко. Посмотрев почему-то на тетю Капу, а не на меня, он сказал: «Читайте «Происхождение видов» Дарвина. Там все сказано». Несомненно, академик Деборин посчитал вопрос исчерпанным, а я испытал разочарование. Беседы не получилось. Обращение на «вы» со стороны маститого ученого ко мне, мальчишке, усугубило мое смущение и растерянность. Я не мог ни поблагодарить за ответ, ни задать какой-то другой вопрос.
Тетя Капа, добрая душа, почувствовав неловкость ситуации, пришла мне на помощь. Она не обладала академическими познаниями, но ответила на мой вопрос, обращенный к Деборину, так: «Б-г есть для тех, кто верит в него. Это не требует доказательств». Как раз в этот момент академик пил чай. Он в очередной раз поднес чашку ко рту, немного отпил и кивнул как бы в знак согласия, но опять-таки ничего не сказал. Вместо него мысль тети Капы продолжил отец Владика. Остановив на мгновение взгляд на тете Капе, он медленно произнес: «И наоборот, настоящих безбожников ни в чем убедить нельзя».
Родители Владика меня разочаровали. От них никто из моих домашних не узнал о «глубокомысленном вопросе», заданном их одиннадцатилетним сыном действительному члену АН СССР. А вот тетя Капа опять не подкачала. В состоявшемся вскоре разговоре с моим отцом она назвала меня «а клигер ингалэ». Даже я знал, что в переводе с идиша это означало «умный мальчик».
* * *
Тетя Капа не была еврейкой. Она родилась в каком-то белорусском селе, рядом с еврейским местечком. С детства говорила не только по-русски и по-белорусски, но и на идише. Уже после ее смерти Владик рассказывал мне, что родители тети Капы считались людьми «состоятельными». Может быть, ее отец был даже помещиком. Тете Капе дали неплохое образование. Тем не менее романтика революции захватила и ее юную душу. Она сбежала на фронт с каким-то красным командиром и успела выйти за него замуж.
Этот командир приходился родственником легендарному командарму 2-й Конной армии Филиппу Кузьмичу Миронову (1872-1921). Судьба Миронова трагична. В 1921 году он был арестован и убит во время прогулки часовым во дворе тюрьмы. У него были натянутые отношения как с Троцким, так и со Сталиным. Не особенно не ладил он с Буденным и Ворошиловым, стоявшими во главе 1-й Конной армии. История гибели командарма Миронова и сегодня покрыта мраком. Примечательно, что в советское время в истории Гражданской войны 2-я Конная почти не упоминалась. И это при том, что именно бойцы этой армии принимали активное участие в разгроме Врангеля в Крыму.
Первый муж тети Капы погиб вскоре после того, как Троцкого выслали за пределы Советского Союза. Случайно ли совпали эти события, сегодня уже не скажет никто. Ну и что? Даже, если между этими событиями прослеживалась бы какая-то связь, меня такой расклад совсем бы не удивил. Но я был просто потрясен, когда узнал, что вторым мужем тети Капы был не кто иной, как Михаил Аркадьевич, отец Владика. Разумеется, тогда он его отцом еще не был.
Михаил Аркадьевич Иоффе и Капитолина Григорьевна Миронова познакомились в начале 30-х годов, когда ее, врача-офтальмолога, перевели работать в санчасть одного из крупнейших московских заводов «Динамо», раскинувшего свои корпуса рядом с нынешней станцией метро «Автозаводская». Поженились они года через два, когда получили комнату (по тогдашнему жилплощадь) в районе Кожуховских улиц.
У отца Владика это был первый брак, хотя в ту пору ему уже перевалило за тридцать. Если верить документам, оставшимся после смерти тети Капы, которые разбирал Владик, по возрасту она на пару-тройку годков была старше его отца. Фамилию первого мужа тетя Капа не сменила. Почему? Владик не знает. Предполагает, что так захотел отец. Опять–таки – почему?
Это уже другой вопрос. На него тоже нет ответа, но есть вопрос на вопрос. Почему популярный актер Андрей Миронов вошел в историю кино и театра под этим именем, а не как Андрей Менакер? Ведь фамилия его отца, известного эстрадного артиста, игравшего в блистательном дуэте с потрясающей Марией Мироновой, была Менакер.
Но в нашем повествовании не в фамилии суть. Дело в том, что семейная жизнь Капитолины Григорьевны и Михаила Аркадьевича длилась менее двух лет. И не смерть-разлучница вмешалась в их жизнь, а люди, возомнившие себя вершителями человеческих судеб. Но они не вершили, а ломали людские жизни.
…Однажды осенним вечером того страшного года жизнь тети Капы треснула и надломилась. Потом она говорила, что в такие моменты останавливается не жизнь, а время. Это подобно клинической смерти – без последствий не остается. Остановка жизненного времени отличается от клинической, в медицинском смысле, смерти нестерпимой душевной мукой. Часто люди и в самом деле стерпеть эту муку не в состоянии. Тогда время останавливается навсегда. Это смерть.
Своих детей тете Капе Б-г не дал, но во Владике она души не чаяла. И он, когда старше стал, принял на себя немалую долю ответственности за ее жизнь. Фактически он опекал тетю Капу до конца ее дней. Не удивительно, что именно она сделала Владика своим духовным наперсником, пересказывая ему свою жизнь едва ли ни день за днем. Особенно подробно Владик знал ту половину жизни тети Капы, которую и жизнью-то назвать нельзя.
…В те годы даже несомненные храбрецы страшились ночных звонков в дверь. Звонков незваных гостей. В квартиру Капитолины Григорьевны и Михаила Аркадьевича не позвонили, а постучали. Совсем даже не настырно. Скорее робко. И не ночью, а вечером.
Вошли двое военных. Вели себя очень культурно. Поначалу даже заметно тушевались. Извинились за беспокойство. Представились –органы. Они самые. Родные и милые. Которые никогда не ошибаются. Но ничего страшного, разумеется. Никто никого арестовывать не собирается. Только убедительная просьба. Ну просто очень убедительная – надо посмотреть больного. Срочно. У него что-то там с глазами. Вероятно, придется делать операцию. Сказали: «Машина ждет у подъезда».
Тетя Капа, конечно же, долго ждать себя не заставила. Надо, так надо. Врачебный и гражданский долг блюла.
Вышла Капитолина Григорьевна с теми чекистами, и… вновь войти в ту же квартиру ей не привелось. Через 18 лет вернулась в Москву, но уже в другой дом и на другой улице. Да разве в этом суть происшедшего? Главное – между этими «вошла» — «вышла» пролегла жизнь. Более чем жизнь – эпоха! А то и несколько эпох.
Но не забудем, что Капитолина Григорьевна – врач-офтальмолог и что чекисты, извинившиеся за нежданный визит, просили «посмотреть больного». И верно, привезли тетю Капу в больничную тюрьму. Понятное дело, она ничего предвидеть не могла. Только удивилась очень: почему такому серьезному учреждению понадобилась именно ее помощь? Ведь совсем не примечательный она хирург. Рядовой. Невдомек тогда было тете Капе, что те серьезные тюремные врачи, о которых она подумала, оказались ненароком «врагами трудового народа», разоблачены были зоркими чекистами и подсели к своим бывшим пациентам. А то и хуже – жизни лишились.
Конечно, сегодня нам нетрудно демонстрировать свою эрудицию. В те же страшные годы многие совершенно растерялись от непонимания происходящего. Капитолина Григорьевна не сразу поняла, что чекистский капкан захлопывается за всеми, кто в него попадает. Исключений практически не бывает. Такова закономерность большого террора. В противном случае он именовался бы как-то иначе. Спустя годы, пройдя через мясорубку сталинских лагерей, Капитолина Григорьевна скажет Владику:
«И все-таки самый сильный страх я испытала в первый день, оказавшись в тюремной больнице…»
…Ее почти сразу привели в операционную. Велели готовиться к операции – халат надели, гигиену навели. И к столу. А она к столу операционному несколько шагов сделала и остановилась как вкопанная. Рассказывала, что в обморок чуть не упала, хотя врачом уже опытным к тому времени была. Спасибо сестрички подхватили.
Да как тут не упасть – лежит на столе не кто-нибудь, а красный маршал Василий Константинович Блюхер. Его фотографии тогда во всех газетах мелькали, портреты на торжествах перед трибунами носили. Да не просто пластом лежит знаменитый вояка. По лицу видно – бит-перебит командующий Дальневосточной армией, которого еще в феврале того самого 1938 года «в связи с двадцатой годовщиной Рабоче-Крестьянской Красной армии и Военно-морского флота, за выдающиеся успехи и достижения в боевой, политической и технической подготовке…» наградили вторым Орденом Ленина. Нельзя пройти мимо того факта, что Блюхер незадолго до своего ареста был введен в состав Специального судебного присутствия Верховного суда СССР, который рассматривал «дело Тухачевского». Тогда Блюхер голосовал за вынесение маршалу Михаилу Николаевичу Тухачевскому, крупнейшему военному теоретику, бывшему Первому заместителю наркома обороны СССР, и другим высокопоставленным советским военным смертного приговора.
…Маршала Блюхера арестовали октябрьским утром 1938 года в Сочи на даче Ворошилова. Вместе с третьей женой и родным братом. Потом арестантов поездом доставили в Москву. Вначале его поместили во внутреннюю тюрьму НКВД, затем перевели в Лефортовскую тюрьму. Маршал подвергался страшным избиениям. Сейчас мне было бы интересно узнать, в больницу какой тюрьмы доставили доктора Миронову. Но в одиннадцатилетнем возрасте этот вопрос меня не интересовал.
Сталинские заплечных дел мастера никакие звания, ордена и медали в учет не ставили. Пыточный механизм не должен был давать сбоев. Один глаз Василия Константиновича был так поврежден, что непонятно было офтальмологу Мироновой, с чего операцию начинать. Но она взяла себя в руки. Операцию сделала. И неплохо сделала. Даже спасибо сказали. Отвели отдохнуть в отдельную комнату. Охрану у дверей поставить не забыли. А когда засобиралась Капитолина Григорьевна домой – извинились (ей всю дорогу вежливые попадались) и попросили немного подождать. Ждать и в самом деле пришлось недолго. Вскоре ее пригласили в машину и повезли. Не домой, конечно. А в другое место. По дороге так и сказали: везем, мол, вас в другое место.
* * *
По другим местам тетя Капа отмотала восемнадцать годков. Никакого приговора не было и в помине. «Другие места» — это пересыльные пункты. Впрочем, срок доктор Миронова вычислила потом, а тогда срока, как такового, не было — судей она и в глаза не видела. По пересылкам моталась «без права переписки».
Михаил Аркадьевич, тогдашний муж тети Капы, сразу же спохватился – жены нет и нет. Все мыслимые и немыслимые пороги пообивал. Войну прошел, ранения получил. Живым с наградами на груди вернулся и новый круг канцелярских хождений начал. Но ничего путного фронтовику Михаилу Иоффе не говорили.
Человек как сквозь землю провалился. Вроде и не шпионка его жена, но скрытый враг, перерожденец, а потому женой ему быть не может. И вообще – так надо во имя родины и победы мировой революции. Поняли? Тогда без глупостей: ходить туда-сюда и мозолить людям глаза нет никакой нужды! Глупостей делать Михаилу Аркадьевичу не пришлось, потому что отправили его, инженера по профессии, в длительную командировку, на Дальний Восток. Спасибо, что не посадили… С них бы сталось!
А жизнь брала свое. Там, на Дальнем Востоке, женился человек. Потом все-таки назад в Москву перебрался.
Представляете ситуацию? Живет себе человек в Москве с новой семьей. Сын у него родился, с женой ладит — все как полагается. Война и предвоенные страшные годы, конечно, не забываются, но пеленой постепенно затягивались. Таковы законы бытия. А тут откуда не возьмись, к нему является жена, не то бывшая, не то еще одна настоящая. Фантасмагория жизни, да и только… Что же, спрашивается, делать человеку? С теперешней женой разводиться, а с прежней вновь сходиться? Но ведь и к Нине Семеновне он сердцем крепко прикипел за эти годы. А как быть с сыном, Владиком?
Капитолина Григорьевна вернулась как бы из мира теней. Обычно оттуда не возвращаются. Она никогда не станет чужой для семьи Михаила Иоффе, но женой для него она тоже никогда уже не будет. Ее статус неопределенный. Начать жизнь сначала у нее не было ни времени, ни сил. Поэтому остаток жизни она решила провести рядом с семьей человека, который когда-то был ее мужем.
Жуткая винтично-гаечная система советской жизни уподобила жизнь тети Капы именно винтику или гайке. Ведь винтики и гаечки иногда теряются, а потом находятся. Иногда через годы. А зачем они нам через годы? К тому же проржавевшие. Мы ведь другими воспользовались – такова винтично-гаечная логика жизни…
…Тетя Капа умерла на исходе зимы. Диагноз она поставила себе сама. И даже указала дату своей смерти. Ошиблась всего на один день. Не дожила.
Еще Капитолина Григорьевна оставила завещание. Весь свой нехитрый скарб, какие-то деньжата тетя Капа отписала Владику. Она просила свои останки сжечь, а урну с прахом захоронить на кладбище одного из поселков Пермской области, где она провела последние годы своей неволи. Урну с прахом в Сибирь повезли Михаил Аркадьевич и Владик.
Свою первую жену Михаил Аркадьевич пережил только на пять лет. Вскоре умерла и Нина Семеновна. Несомненно, если бы эти заметки писал Владик, то о тете Капе он вспомнил бы больше. Но Владислав Михайлович Иоффе, бизнесмен средней руки эпохи перестройки, погиб в нелепой автокатастрофе за один день до путча ГКЧП в августе 1991 года.
В память о нем, его семье и тете Капе я решился опубликовать эти воспоминания.