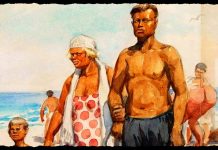или За что Сталин ненавидел Бабеля?
Татьяна ЛИВШИЦ-АЗАЗ
Среди многих упреков Натали Бабель к отцу был и такой: она находила его письма к семье после 1935 года «скучными и приземленными».
Не жившим в советской стране людям трудно было до конца понять осторожность советского писателя в переписке с заграницей, обострившуюся в эти годы в условиях усиления цензурной слежки. Но можно ли объяснить изменения в письмах Бабеля только этим? Да и такие ли уж они «скучные и приземленные»?
Это правда, что в них не осталось и следа той захватывающей внутренней драмы, той мощной лирической струи, которой пропитаны письма двадцатых, когда он мучительно разрывался между любовью и долгом в отношениях с женой и с Тамарой Кашириной, между Россией и Францией. Да, теперь они переполнены описаниями хлопот, связанных с продлением в Париже срока действия советских паспортов жены, матери и дочери, с лечением зубов; в них немало слов уделяется и бессоннице, и вопросам о прибытии из Москвы в Париж и Брюссель его посылок, и новым заказам в Москве книг для Наташи… Но при этом бытовые мотивы тесно переплетаются с сокровенными выношенными раздумьями о собственных творческих задачах, и всегда ощущаются обаяние и сила бабелевского голоса, напряженная работа его мысли. Главный нерв его писем – постоянные размышления о «параллельной реальности» – литературе, и о ситуации, сложившейся вокруг его писательской репутации во второй половине тридцатых. При этом поражают внутренняя свобода и самообладание: несмотря на объективно нарастающий трагизм ситуации, он сохранял обычную интонацию и чувство юмора. Что же помогало жить и творить в эти годы жизни с двойным, а то и тройным дном?
Широко известна «вера» КПСС в магическое воздействие на массы кинематографа. Знаменитая фраза Ленина – «Вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино» – бесконечно цитировалась на протяжении всех лет советского строя. И у моего поколения она буквально навязла в зубах. Между прочим, ее источник – воспоминания Луначарского о беседе с Лениным в феврале 1922 года. Правда, теми, кто нам эту истину старательно вдалбливал, и нами нередко упускалось из виду, что в начале двадцатых годов минувшего века большинство населения России было неграмотно, и кино (как иконы в церкви) было эффективным способом внедрения в массы необходимой идеологии.
Читайте в тему:
Но и вера в магию литературного слова среди советских вождей была огромна! Известно, что как бы ни различались между собой ведущие политические деятели двадцатых-тридцатых годов – от Ленина и Троцкого до Сталина и Бухарина, Каменева и Зиновьева, Кирова и Орджоникидзе, Калинина и Буденного, – какими бы разными ни были их интеллекты, образование, эрудиция и взгляды на пути развития молодого советского общества, или степень близости к Сталину, у них всех была единая общая черта: сакральная вера в способность литературы и искусства воспитывать сознание масс.
Многие профессиональные революционеры – Троцкий, Каменев (автор прекрасной книги о Н.Чернышевском), Луначарский – обладали явными литературными способностями и писали сами. Другие обладали хорошим литературным вкусом, как, например, Калинин.
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Подход к литературе Сталина отличался от них разительно. Благодаря по-звериному острому чутью он моментально распознавал, что хорошо, то есть полезно для укрепления его личной власти и насаждаемого им режима, а что бесполезно или даже вредно, и это было для него важнейшим мерилом того или иного произведения, а за ним и автора. Но не только. При этом он строго требовал и яркой талантливости, и художественной убедительности.
Глубокая неприязнь к Бабелю зародилась у будущего единоличного вождя еще со времен выхода «Конармии».
Во-первых, Сталин всегда настаивал на том, чтобы его видели создателем Первой конной армии, а Бабель об этом факте даже не упомянул! Во-вторых, из всех битв и сражений Первой конной писатель решил описать именно провалившийся польский поход. Хотя в этом поражении больше были виноваты Ленин и Троцкий, однако обвинили в нем только Сталина – тогдашнего военного комиссара Юго-Западного фронта, – из-за чего он был отозван в Москву и выведен из состава Реввоенсовета. Естественно, что факт обращения Бабеля именно к этому эпизоду подлил еще больше масла в огонь сталинского раздражения и гнева. Собственно, известный разгромный отзыв Буденного о конармейском цикле вполне соответствовал мнению вождя. Тогда, в 1928 году, Горькому удалось отстоять Бабеля. Однако недовольство им продолжало накапливаться.
С 1929 года начинается процесс коллективизации. Бабель, вернувшийся из первой поездки во Францию, воодушевлен и настроен решительно: он получает командировку в Бориспольский район Киевской области, чтобы увидеть вблизи, а затем описать важнейший исторический этап в развитии молодой страны, однако жуткие впечатления разгрома крестьянства производят обратный эффект. Как художник, как человек, одержимо ищущий «правду искусства», он потрясен и подавлен тем, что происходит в деревне. Да, в марте 1930 г. появилась известная статья в «Правде» о «перегибах в коллективизации» – «Головокружение от успехов», после чего вроде бы стала возможна некоторая критика превышения полномочий местными властями, но ведь Сталину после признания «отдельных недостатков» все равно требовалось славословие происходящего! А сжатый, как пружина, беспощадно страшный рассказ Бабеля о трагедии раскулаченной семьи («Гапа Гужва») звучал как суровое обвинение всей кампании колхозного строительства. Только в октябре 1931 В.П.Полонский решился, после редакторской правки, его напечатать.
К счастью, в тот же период 1931-1932 гг. было напечатано еще семь рассказов Бабеля на разные темы, которые «разбавили» тяжелое впечатление от «Гапы Гужвы». В очерке «Отцы и дочери» я уже писала о том, что новые рассказы и помогли писателю получить визу во Францию и Бельгию для свидания с семьей и знакомства с Натали летом 1932 г. Думаю, однако, что бабелевский «выпад» с «Гапой Гужвой» не ускользнул от внимания Сталина: ведь он до последнего возражал и не хотел разрешить Бабелю поездку. Но у самого Бабеля было ощущение растущей прочности своего литературного положения: редакции наперебой просили материалы, его произведения постоянно переиздавались, в общем, его чрезвычайно высоко ценила и критика, как бы иронично он к этому не относился. И «жить можно, и заработать можно» – такими простыми словами я бы выразила самочувствие Бабеля как советского писателя накануне и на протяжении его второй поездки.
Однако после возвращения из Франции в 1933 г. он начинает ощущать растущее напряжение ситуации: малочисленность новых публикаций становится постоянным упреком в его адрес. Да и то, что попадает в печать, весьма далеко от прославления социалистической действительности. Он прекрасно осознает «неуместность» своего затянувшегося молчания, понимает, что в нем есть некий вызов строю, и пытается «перехватить инициативу». Публикация в 1934 году рассказа «Нефть» – это пример его серьезной попытки «улучшить» свою репутацию.
В основе рассказа испытанный им литературный прием – письмо, которое пишет главная героиня рассказа Клавдия своей подруге Даше. Клавдия – женщина новой советской формации, успешный инженер, занимающая высокую должность управделами Нефтесиндиката. Даша так и остается просто адресатом, зато в послании подробно рассказывается об общей подруге Клавы и Даши – некоей Зинаиде, также сотруднице синдиката. Некрасивая и не первой молодости, она забеременела от женатого инженера, между прочим, еврея, который испугался и хочет, чтобы она сделала аборт. Зинаида, растерянная и жалкая, поначалу соглашается. Однако волевой, уверенной в себе и оптимистичной Клаве удается уговорить подругу поверить в свои силы и способность с помощью друзей и коллег выносить и вырастить ребенка самой, о чем она и рассказывает Даше во всех подробностях. Происходит это после того, как Клава откачивает Зину от обморока, случившегося прямо на работе. Это очень напоминает обморок, произошедший с Тамарой Кашириной прямо на сцене в театре Революции осенью 1925 года, в самом начале беременности! Да и вся ситуация Зины невольно навевает воспоминания об этом эпизоде бабелевской жизни. Звучит у Клавдии и такая фраза, в которой слышится намек на образ пухлого прелестного маленького Миши: «Метисы от евреев очень хороши получаются, – погляди, какой экземпляр у Ани…».
Проступают в рассказе и отзвуки событий, происходивших в те времена в промышленности. Описан выдвиженец Шабсович, которому дали «премию за крекинг, ходит весь в “заграничном”, начальство получило повышение. “Выросши”, парень почувствовал, что знает истину, которая от нас обыкновенных смертных скрыта, и напустил на себя такую стопроцентность и ортодоксальность (ортобокс, как говорит Харченко), что никуда не сдвинешь…».
Очень любопытен и образ спеца Виктора Андреевича, инженера старой формации. Клавдия описывает Даше, как ей удается на собрании, призванном осудить опытного специалиста за неверие в возможность выполнения пятилетнего плана за четыре года (тогда это было главное требование, выдвинутое Сталиным), его самого отстоять, отвергая его подход. Она объясняет его сопротивление линии партии инерцией старости, а не идеологической диверсией. «Не сомневаясь в знаниях и доброй воли профессора Клоссовского, и даже преклоняясь перед ним, мы отвергаем фетишизм цифр, в плену которых он находится. На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы выполним нефтяную пятилетку за два с половиной года?.. На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы с 1913 года увеличим экспорт в девять раз и выйдем на второе место в мире после Соединенных Штатов?». Симптоматично, что в сохранившейся машинописи и в первой публикации рассказа профессора арестовали, а в последующих редакциях Бабель заменяет арест на значительно более легкое наказание. Такая оптимистическая вера в торжество нового гуманного общества звучала не «по-бабелевски» натужно, и ему не удается убедить читателя в искренности и литературной подлинности его дифирамбов новой действительности. Писатель чувствует, что идти по этому пути для него означает «наступить себе на горло».
Может быть, поэтому вслед за «Нефтью», в том же году, он прилагает усилия, чтобы напечатать читаемую им на литературных вечерах уже блистательную новеллу «Улица Данте», в которой нет ни полслова, ни слова о строительстве социализма.
Осенью 1934 года в Москве – огромное событие: Первый съезд советских писателей. Бабель на нем – одна из центральных фигур. И не только потому, что съездом руководит его Учитель – М.Горький. Хотя новых произведений у Бабеля мало, он по-прежнему – один из самых любимых и востребованных советских прозаиков. Его речь на съезде, произнесенная 23 августа, уже на следующий день появляется в «Литературной газете», а 25-го – в «Правде».
Воспользовавшись сравнением разных мастеров пера с кроликами и слонихами, прозвучавшим на съезде в речи И.Эренбурга, Бабель в своем выступлении благодарит советское правительство за возможность быть «слонихой» с долгим периодом вынашивания произведений. И в последующих своих выступлениях на различных писательских форумах он любит пользоваться этой метафорой. В письме к родным 13 июня 1935 г. он прибегает к еще более изощренной аргументации, дабы объяснить положение и родным, и чекистам, перлюстрирующим письма, и, если понадобится, партийным чиновникам: «В стране, столь сплоченной и единодушной, как наша, неизбежно возникает определенное количество мыслительных клише. Мне нужно преодолеть стандартный стиль мышления и ввести в литературу новые мысли, новые идеи, новые чувства и ритмы. Вот что занимает меня, и ничего другого…»
Однако провести Сталина было невозможно. Причины бабелевского молчания у него сомнений не вызывали. За неприсоединением к общему хору советских писателей, воспевающих достижения социалистического строя, он безошибочно диагностировал тайное диссидентство, принципиальное уклонение от «генеральной линии». «"Наш" вертлявый Бабель», – так окрестил его вождь в письме Кагановичу 1932 года, написанном в связи с просьбой Бабеля о визе, заключив в кавычки слово «наш», словно брезгливого эпитета «вертлявый» было мало. Недовольство поведением писателя и недоверие к нему (наверно, и «Улица Данте» сыграла свою роль) растут. Вдобавок к творческой и духовной независимости, раздражает Сталина и его образ жизни. Бабель продолжает поддерживать тесный контакт с семьей за границей и помогать им материально.
Все это и приводят к установлению за ним в том же 1934 году постоянной слежки. Очень быстро аналитическое и критическое отношение Бабеля к ситуации в стране, к стилю внутренней политики, нашло отражение в сводках НКВД.
Вот как он высказался о Первом съезде в беседе с московскими и украинскими писателями сразу по его окончании:
«Мы должны продемонстрировать миру единодушие литературных сил Союза. А так как все это делается искусственно, из-под палки, то съезд проходит мертво, как царский парад, и этому параду, конечно, никто за границей не верит. Пусть раздувает наша пресса глупые вымыслы о колоссальном воодушевлении делегатов. Ведь имеются еще и корреспонденты иностранных газет, которые по-настоящему осветят эту литературную панихиду. Посмотрите на Горького и Демьяна Бедного. Они ненавидят друг друга, а на съезде сидят рядом, как голубки. Я воображаю, с каким наслаждением они повели бы в бой на этом съезде каждый свою группу».
Сталину, конечно, было за что не любить этот «крепкий орешек»!
Из книги «Качели надежды: Три сюжета из жизни Исаака Бабеля»