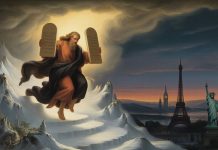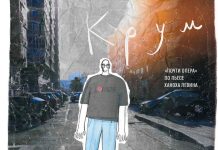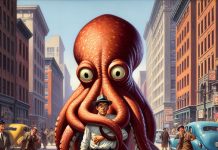Меня часто спрашивают: почему я всю жизнь не расстаюсь с Бабелем? Действительно, почему?
Татьяна ЛИВШИЦ-АЗАЗ
ДЕЛА ОТЦОВ – ЗНАК ДЛЯ ДОЧЕРЕЙ
Очевидный ответ: я – дочь «страстного» и «одержимого» бабелеведа шестидесятых Льва Яковлевича Лившица. Эти эпитеты-самохарактеристики Бабеля очень подходят для определения натуры моего отца. Я росла в атмосфере постоянного «угара»: сбора отцом материалов к творческой биографии Бабеля, восторженного, почти молитвенного отношения к его слову. Отец торопился так, как будто предчувствовал свою раннюю смерть: отца не стало в 1965 году. Он не дожил до сорока пяти лет – возраста, в котором был расстрелян Бабель.
Мама решила, что я должна продолжить отцовское дело и осуществить его замысел: по собранным им материалам написать книгу о Бабеле. Мне было восемнадцать, задача завораживала… Тоска по отцу мучила невероятно, ведь я узнала его только в восемь лет (в моем раннем детстве он был осужден за «космополитизм» и как политзаключенный находился далеко в лагере), а в восемнадцать – уже потеряла. Продолжать общение с ним, сидя дома в его кабинете, над его папками, погружаясь в мир его поисков, казалось спасением от этой тоски.
Через три месяца изучения папиного архива – я читала и перечитывала без разбора от корки до корки все материалы – я поняла, что задача грандиозна, а я бессильна, самонадеянно вообразив, будто могу продолжить отцовское дело. Я вернулась к оставленным занятиям биохимией в университете, но чувствовала себя дезертиром. Долг перед памятью отца не давал покоя моей душе много лет, и только в конце минувшего века Борису Львовичу Милявскому, его другу, и мне вместе с ним, удалось вернуть литературоведению папино имя1.
КАК ВОЗНИК В МОЕЙ ЖИЗНИ БАБЕЛЬ
Читать я начала в шесть лет и читала запоем. Годам к двенадцати-тринадцати, когда отец предложил мне почитать Бабеля, у меня уже был накоплен немалый опыт в чтении художественной литературы. Толстой, Чехов, Достоевский, Куприн, Мопассан, Золя, Флобер, Бальзак, Голсуорси, Горький, Фадеев – все уже было прочитано по первому разу. Я была, что называется, «академической» девочкой, отличницей и общественницей, однако в мире литературы меня почему-то больше всего притягивали героини, бывшие либо обманутыми в любви женщинами, либо проститутками: «Мадам Бовари», «Яма», «Блеск и нищета куртизанок», «Пышка», «Милый друг»… И конечно же, Катюша Маслова и Анна Каренина.
Переживала, сочувствовала, размышляла: если бы я оказалась рядом, сумела бы им помочь?
А иногда, замирая, пыталась представить, что бы я делала, если бы оказалась на их месте… Примерно в это время на экранах появился фильм «Ночи Кабирии», и я рыдала над судьбой заблудшей души вместе со всем залом и самим Феллини. Героиню Джульетты Мазины с героинями любимых романов объединяло сочувствие авторов оставленным и обманутым женщинам.
У Бабеля же все оказалось по-другому. Смыслы мерцали, переливались, никакого однозначного ответа не существовало, и было совершенно непонятно, на чьей же стороне он сам. Как относится к распутству, «окаменевшему в глазах горничной»? И что же за странное чувство связывает пожилую проститутку и неудачливого коммерсанта? И как можно писать о любви мальчика к зрелой женщине, вспыхнувшей в час погрома, когда рядом вспарывают животы живых людей? От всего этого было тревожно, хотелось понять и даже спорить. Я не раз плакала над прозрачной, необъяснимой красотой «Ди Грассо». Спросить папу стеснялась, считая свои вопросы легкомысленными, «девчоночьими», или еще хуже – мещанскими, бабьими. Он-то был озабочен решением «настоящих» проблем в творчестве Бабеля. Например, о его отношении к революции. Впрочем, и это тоже было непонятно.
Но еще больше, чем неоднозначное отношение писателя к своим героям, волновала меня загадка его собственной судьбы. Уже тогда запечатлелись в моем сознании два имени: одно – Тамара Владимировна ИвАнова (Каширина), с которой у Бабеля был роман в середине двадцатых. В 1926 году у них родился сын Михаил, его первый ребенок. Событие вызвало у Бабеля восторженную реакцию, однако по разным причинам, которые я подробно описала во второй части книги*, совместная жизнь не заладилась, и они расстались в 1927 году.
В 1929 г., в Париже, у Бабеля и его жены Евгении Борисовны Гронфайн родилась дочь Натали. Она выросла без него во Франции. В памяти дочери сохранилась всего одна встреча с отцом: он провел с ней месяц, который пришелся на начало ее шестилетия. Однако большую часть сознательной жизни Натали посвятила творческому наследию отца – именно ему суждено было стать «героем» ее собственных литературных штудий. Долг перед его памятью, должно быть, был и ее путеводной звездой.
СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ ИСААКА И ЕВГЕНИИ БАБЕЛЬ ДО РОЖДЕНИЯ ДОЧЕРИ В 1929 ГОДУ
В 1994 году вышло по-английски второе издание сборника писем писателя к родным с новым предисловием Натали Бабель. В этом вступительном очерке, никогда не переводившимся на русский язык, есть яркие подробности об отроческих и молодых годах Бабеля. Поэтому я позволю себе привести из него обширную цитату (в моем переводе). Она позволяет почувствовать и интонацию самого автора, и услышать подлинные голоса семейства Бабель: матери Фани Ароновны, сестры Мери и первой жены, Евгении, – ведь именно их рассказы легли в основу воспоминаний Натали.
«Из-за процентной нормы Бабель не смог поступить в Одесский университет. Поэтому отец решил послать его в Киев для продолжения образования в Киевском коммерческом институте. Бабель был зачислен туда в 1911 году.
В Киеве он знакомится с Борисом Вениаминовичем Гронфайном, производителем и импортером сельскохозяйственной техники, многолетним деловым партнером отца. Естественно, Гронфайн с удовольствием принялся опекать сына своего друга. Бабель-юноша, еще неуклюжий, легко вспыхивающий, с по-детски пухлыми щеками, выглядел провинциалом. (Семья Бабель в Одессе снимала большую четырехкомнатную квартиру на Ришельевской, а у семьи Гронфайнов был собственный четырехэтажный дом в центре Киева. Примерно таким было и соотношение в экономическом положении семейств. – Т.Л.)
Читайте в тему:
Атмосфера в доме у Гронфайнов была аристократической и утонченной. Борис Гронфайн был образованным интеллигентным человеком, ироничным и щедрым. Его вкус и стиль жизни были европеизированы. Его жена была красивой, несколько меланхоличной женщиной, большую часть времени проводившей за чтением и шахматами. У них был сын и две дочери.
Младшей, Жене, которой было суждено стать женой Бабеля, было тогда пятнадцать лет. Эта романтичная девушка хотела стать художницей. Контактам с внешним миром она предпочитала мир литературы и искусства. Великая русская литература, итальянский Ренессанс, Вальтер Скотт, Гете, Стриндберг, Бальзак – это был круг ее интересов. (Как и ее будущий муж, Женя прекрасно владела французским языком – Т.Л.) И много лет спустя, многое пережив, она могла восстановить душевный покой и вернуть себе стойкость духа, погружаясь в книгу или созерцание картины.
Мои родители с ранней юности разделяли всепоглощающую любовь к искусству и веру в то, что ради него можно пожертвовать всем.
Это была эпоха социальной напряженности и интеллектуальной экзальтации. Мои родители готовились жить героически. Мама отказывалась носить меховые манто и элегантные наряды, которые покупали ей родители. Мой отец, чтобы закалить себя, и в самые лютые морозы ходил в одном пиджаке, без пальто и шапки. Эти спартанские усилия закончились в один прекрасный день, когда мои родители шли, как обычно, легко одетые, и вдруг какая-то женщина набросилась на отца с криками: “Сумасшедший!” Вспоминая этот эпизод и тридцать лет спустя, моя мать все еще чувствовала себя униженной и растерянной. Она не могла забыть и другой случай: свое безмерное удивление, когда жених первый раз пригласил ее в кафе на чашку чая и стал с головокружительной быстротой поглощать одно за другим пирожные. А в доме Гронфайнов он отказывался от всего, кроме чая. Его объяснение было очень простым: “Когда я начинаю есть сладкое, я не могу остановиться. Поэтому мне лучше не начинать”».
Осенью 1916 года Бабель переезжает в Петроград, получив вид на жительство как студент юридического факультета Петербургского психоневрологического института. Он снимает жилье у четы Слонимов, с тех пор ставших его друзьями. Тогда же он приходит к Горькому со своими первыми рассказами, которые Горький принимает к публикации в ежемесячном журнале «Летопись». Вот как описаны оба со-бытия в очерке «Начало»:
«Я стоял в передней, чему-то улыбался и неожиданно для себя приоткрыл дверь в столовую. Инженер с женой пили чай. Увидев меня в этот поздний час, они побледнели, особенно у них побелели лбы.
“Началось”, – подумал инженер и приготовился дорого продать свою жизнь.
Я ступил два шага по направлению к нему и сознался в том, что Максим Горький обещал напечатать мои рассказы.
Инженер понял, что ошибся, приняв сумасшедшего за вора, и побледнел еще смертельнее.
– Я прочту вам мои рассказы, – сказал я, усаживаясь и придвигая к себе чужой стакан чая, – те рассказы, которые он обещал напечатать…»2.
Бабель прожил в Петрограде, в смутные годы революций, до середины 1919 г. Он писал заметки и очерки для «Журнала журналов» и для газеты «Новая жизнь», которую издавал в Петрограде М.Горький. Его голос был проникнут безмерным любопытством и сдержанным восторгом перед грандиозными переменами, неисчерпаемым сочувствием к «маленьким людям», надеждой и оптимизмом, самоиронией. Время от времени ему удавалось посетить Киев, а в июле-августе 1918 года он даже принял участие в продовольственной экспедиции по Волге «красного» купца С.В.Малышева3.
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Слонимы перебрались в Москву, и теперь Бабель снимал в Петрограде скромную комнатку со школьным товарищем Александром Френкелем. Тому запомнилась одна деталь, о которой он и сообщил Натали: по ночам Бабель шатался по городу, а днем отсыпался. Наконец будущий автор «Одесских рассказов» и «Конармии» возвращается в Одессу, где 10 августа 1919 года они с Женей поженились4.
После свадьбы молодые продолжали жить в семейной квартире Бабелей вместе с родителями и его сестрой Мери. Бабель, уже накопивший опыт работы журналистом в газете, пошел на работу в Окна РОСТа, а в мае 1920 года присоединился к Первой Конной армии, с журналистским удостоверением на имя Кирилла Лютова, для участия в польском походе.
Натали пишет: «В первый день своей службы он, взобравшись на лошадь, по всей вероятности, первый раз в жизни, должен был проскакать около пятидесяти миль. Он не только справился с заданием, – в этот день он влюбился в лошадей на всю жизнь».
Натали абсолютно права. Об особом отношении Бабеля к лошадям вспоминают многие, кто с ним дружил и любил, – литератор Кирилл Левин, журналист Татьяна Тэсс, писатели Лев Никулин и Ефим Зозуля, Антонина Николаевна Пирожкова и Тамара Владимировна Иванова. Бабель любил посещать бега, чтобы общаться с лошадьми и наездниками, при этом он никогда не играл, но ему нравилось брать с собой друзей и любимых женщин. С 1925 года он стал регулярно посещать конный завод на станции Хреновая в Воронежской области, крепко подружившись с главным специалистом завода, подлинным знатоком в этой области Виктором Александровичем Щекиным, а когда уезжал во Францию, часто просил в письмах своего друга, Исаака Леопольдовича Лившица, присылать ему программки заездов на московском ипподроме…
…Осенью 1920 года от Бабеля перестали приходить известия с фронта. Женя, с трудом привыкавшая ко всем лишениям и трудностям эпохи военного коммунизма, при этом не побоялась одна отправиться в полосу военных действий на розыски мужа. К счастью, он нашелся сам. Много лет спустя Мери рассказывала Наташе, что он вернулся в ужасном состоянии: со вшами, с фурункулезом, с обострением астмы. Бабель с женой жили в Одессе, а летом 1922 года, для восстановления здоровья и заработков, из голодной Одессы уехали в Грузию. Бабель нашел работу журналиста в тифлисской газете «Заря Востока». Вот как описывает этот период Натали со слов Мери:
«…мои родители сняли домик на Кавказе, недалеко от Батуми. Там, на склонах гор, началось посвящение моей матери в тайны ведения домашнего хозяйства. Для покупок продуктов на рынке нужно было пройти несколько миль, это было небезопасно, но, из-за не отступавшей астмы, отец не мог этого делать. Он научил мою мать стирать особым методом, щадя руки. Однажды она приготовила суп такой густоты, что отец взял нож, якобы собираясь его резать. В конце концов он познакомил ее со старым татарином, обучившим молодую хозяйку тайне варки рассыпчатого риса и поджариванию на огне шашлыка из барашков. У них не было ни гроша по очень странной причине: Борис Гронфайн снабдил их перед поездкой тысячерублевой банкнотой, которую никто не мог разменять.
Это было в 1923 г., все еще на Кавказе, когда мой отец стал работать над рассказами для книги “Конармия”. Достижение нужной формы превратилось в бесконечную пытку. Он читал моей матери вариант за вариантом, тридцать лет спустя она еще помнила каждый рассказ наизусть»5.
Женя не только слушала рассказы, но и переписывала их. Насчет же сроков возвращения в Одессу и первых публикаций конармейского цикла Натали ошиблась. Молодая пара вернулась из Тифлиса уже в начале 1923 года, и тогда же начали появляться в печати первые рассказы будущей «Конармии». Зимой 1924 года от воспаления легких скончался отец писателя, Эммануил Исаакович. Бабеля уже печатали московские журналы, его имя становилось известным. Летом того же года Бабель перевез семью – мать, сестру и жену – в Сергиев Посад (Загорск) под Москвой.
В Париж Женя уехала в ноябре 1925 года взять уроки живописи. Она была способным художником, писала в стиле Утрилло, мечтала воочию увидеть шедевры импрессионистов и постимпрессионистов, послушать лекции по искусству в Сорбонне. Отъезд ее сильно подгоняло и то, что с раннего лета Москва полнилась слухами о романе мужа с молодой и очень красивой актрисой Тамарой Кашириной из Театра Мейерхольда, да и по поведению мужа было ясно, что он сильно кем-то увлечен. Легче было всего этого не видеть. Уже в Париже она узнала о рождении у Бабеля сына от Тамары. Все это время переписка между ними продолжалась, и связь с ее родителями Бабель сохранял. В марте 1927 года он похоронил в Киеве отца Жени, помог уладить сложные финансовые дела семейства Гронфайн и подготовил к отъезду в Париж ее овдовевшую мать Берту Давыдовну.
Бабель и не мог поступить иначе: привезти к ней родителей он пообещал жене перед ее отъездом осенью 1925 г. Реальные обстоятельства, при которых это обещание было реализовано, также описаны в главе «Бабель и Каширина».
Когда после разрыва с Тамарой они встретились с женой в июле 1927 года, трудно было предугадать, как сложатся дальше их отношения. Его мучило чувство вины перед Тамарой и сыном, оставшимися в Москве. Медленно и постепенно его душевное состояние приходило в норму, атмосфера разряжалась. 4 октября Бабель сообщил из Парижа своим друзьям Слонимам6:
«Я не писал потому, что был неустроен – душевно, материально, всячески. Теперь работаю. Исписал книгу Льва Ильича больше чем на половину». В середине октября он простудился, простуда вызвала обострение астмы, и 22 октября Бабель приехал в Марсель, чтобы подлечиться. Марсель напоминал ему любимую Одессу, вдобавок процветающую, что вызвало у Бабеля прилив душевных сил. Вернулся он в середине ноября, а под Новый год к ним в Париж на несколько недель приехала из Брюсселя погостить его мама Фаня Ароновна, где жила с дочерью Мери и ее мужем. Она умела замечательно копировать разных людей, рассказывать о них смешно и уморительно. Как будто возвращалась привычная одесская атмосфера! Все снова почувствовали себя единой семьей.
В феврале и марте он пишет Льву Никулину об «упоительной, неправдоподобной весне» в Париже, и прибавляет: «Живем великолепно». И почти теми же словами – Исааку Лившицу в марте: «Весна упоительная, душа рвется к небесам, самочувствие поэтическое» 7.
В мае Мери написала в Москву своей подруге Людмиле Николаевне, жене упомянутого выше Исаака Леопольдовича (по-домашнему – Изи) Лившица, что «у Иси и Жени все в порядке». Это упоминание дорогого стоило. Ведь Изя и Ися дружили с гимназических одесских времен, кроме того, пара хорошо знала и Женю, и Тамару, была посвящена во всю сложность ситуации.
Однако летом 1928 года, прожив в Европе с семьей всего год, Бабель начинает чувствовать непреодолимое желание вернуться в Россию, несмотря на постоянно поступавшие оттуда новости о «закручивании гаек». Его влекут масштабы грандиозных перемен. Нет, он никак не в состоянии остаться во Франции навсегда. Это слишком скучно! Он должен быть там, в гуще событий. А к родным приедет еще раз.
Перед его отъездом они всей семьей – с матерью, сестрой и Женей – провели почти три недели на Северном море в деревушке, недалеко от знаменитого курорта Остенде. Сохранилась фотография: на песчаном пляже сидят в шезлонгах Ися и Женя. Они одеты как для уличной прогулки – на Бабеле костюм, она в кофточке и юбке, на спинке шезлонга брошена какая-то накидка, оба в закрытых туфлях. Наверно, как это часто бывает в северных краях, был солнечный, но прохладный день, поэтому они решили хотя бы прогуляться у моря. Он смотрит прямо в аппарат с некоторым недоумением, наморщившись, – мол, зачем потревожили? Евгения Борисовна, хрупкая, с копной волос, собранной на затылке в огромный пучок, – так и чувствуется его тяжесть, – сидит на некотором расстоянии от мужа. Ее взгляд опущен в землю, легкая улыбка затаилась в уголках рта, как будто она задумалась, чтобы подыскать слова для ответа на вопрос. Рядом с ее шезлонгом валяется на песке небольшая женская сумочка – открытая. Хозяйке явно не до нее – это те «мелочи жизни», на которые она не любит обращать внимания. И хотя на этом снимке между ними расстояние, чувствуется какая-то незримая связь без слов. Каждый существует в своем мире, в своем пространстве, но они рядом, привычно не мешая друг другу.
…Он вернулся в Россию в начале октября 1928 года. Вскоре по возвращении ему стало известно о беременности жены и предстоящих в середине лета 1929 года родах. Натали родилась в Париже 17 июля 1929 года.
ВСТРЕЧИ ОТЦА С ДОЧЕРЬЮ
Уже с весны 1929 года Бабель начинает хлопотать о второй поездке во Францию. В СССР наступили годы «великого перелома»: крестьян загоняют в колхозы. От писателей ждут новых произведений, воспевающих перемены. Для сбора материала Бабель побывал в творческой командировке в Бориспольском районе под Киевом, но ничего подходящего для публикации создать не смог. Наконец, поработав над рукописями и согласившись на компромиссы, которые предлагали редакторы в угоду цензуре, он сумел подготовить восемь рассказов, напечатанных в 1931–1932 гг. Лишь один среди них, «Гапа Гужва», был о коллективизации. Тем не менее долгожданная виза для поездки и знакомства с дочерью (ей уже исполнилось три года!), после трех отказов с личной резолюцией Сталина, была получена! «Товарообмен» – ситуация, когда заранее известно, что результаты творческих усилий удастся обменять на некие материальные блага или жизненные привилегии, которую Бабель разрабатывал в своей прозе8, была досконально известна ему из собственной жизненной практики, и не только. В те годы тенденция эта все глубже и шире проникала в практику отношений советской власти с писателями. Достаточно вспомнить, например, «Стихи о советском паспорте» Маяковского 1929 года. Ведь не только факт обладания им вдохновил поэта, но надежда получить разрешение на желанную поездку в Париж для очередной встречи с Татьяной Яковлевой, к сожалению, так и не осуществленная!
Бабелю повезло больше. В сентябре 1932 года он, наконец, знакомится с «маленькой француженкой». Он очарован дочкой, и с тех пор тема Наташи прочно поселяется в его письмах родным, занимая отдельное, я бы сказала, почетное место. Бабель буквально впитывает все новости о девочке, он восхищен ее шаловливостью, смелостью, упрямством – хорошо знакомыми ему чертами собственного характера.
В июне 1935 года Бабель неожиданно снова попал в Париж. Это был третий и последний, к тому же весьма короткий (немногим больше месяца), период совместной жизни с семьей во Франции. Для Наташи, которой в июле должно было исполниться шесть лет, эта встреча с отцом оказалась единственным живым воспоминанием о нем. Бабель, приехав 20 июня в Париж на несколько дней на Антифашистский конгресс в защиту культуры, сумел задержаться там до начала августа. День рождения Наташи (17 июля) отмечался дважды. Сначала – с папой и мамой в Париже, а затем – всей семьей, включая бабушку, тетю Мери и ее мужа, дядю Гришу (Шапошникова), – в Брюсселе. К ним Бабель с женой и дочерью приехали не позже двадцатого июля. Эти счастливые дни навсегда запечатлелись в памяти Натали. С тех пор мостом между ним и семьей оставалась переписка, посылки денег и подарков Наташе – детских книг и игрушек.
Еще при жизни отца я часто представляла себе, как в 1933 году, вернувшись в Россию после года, проведенного с семьей во Франции, Бабель скучал по маленькой Наташе и мечтал о том, чтобы она и ее мать приехали к нему. Мне было абсолютно ясно: он не мог остаться с ними в Париже, потому что мог жить и писать только на родине, дыша «воздухом больших перемен»9. Но Евгения Борисовна возвращаться не хотела, и поэтому они в конце концов расстались. И последней любовью Бабеля стала Антонина Николаевна Пирожкова, которую он встретил в 1932 году, за несколько недель до отъезда во Францию. И, конечно, я была уверена, что они жили бы долго и счастливо, если бы не сталинские репрессии тридцатых.
Совсем юная и неопытная, я – дитя Двадцатого съезда, оттепели и реабилитаций – от всего сердца верила в ясную и прямую последовательность событий в личной жизни писателя. Однако возникало неожиданное противоречие, путавшее схемы семейных сюжетов, известных мне из литературы: отцу переводили с итальянского собрание писем Бабеля к матери и сестре в годы разлуки, когда те жили в Брюсселе. Сборник назывался «Одинокие годы: 1925–1939». (Это было одно из первых изданий сборника писем, составленного Натали.) И я терялась в догадках: почему же «одинокие» – ведь Бабель уже полюбил Антонину Пирожкову? В 1937 году у них родилась дочь Лида! Он вовсе не был один. А кроме того, в те годы он был популярным и любимым многими писателем. Попыталась спросить отца – но он на меня та-ак глянул: «Это еще что? Сплетнями заниматься? Личная жизнь Бабеля никого не касается! К литературе отношения не имеет! Поняла?» Я только молча кивнула, мне не пришло бы в голову с ним спорить, однако где-то глубоко внутри засело: Бабель до конца своих дней не прерывал связи с семьей, жившей за границей.
Удивительная вещь – наше сознание. Сейчас я намного старше своего отца, произнесшего ту сентенцию. Его представления о том, чем можно и чем нельзя интересоваться в истории литературы, кажутся пуританскими. Он ненавидел политическое лицемерие зрелого социализма и не боялся с ним бороться. Но однозначное отделение творчества от контекста жизни писателя или поэта для него не было искусственным. Наоборот, он считал принятый тогда подход единственно возможным. Принципу этому в своих исследованиях творчества Бабеля он следовал неукоснительно. Это было и выражением его благоговейной любви к писателю. А в жизни отец был блестящим, обаятельным, остроумным, увлекающимся и влюблявшим в себя… И трогательно рыцарским в отношениях с женщинами.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Сайт памяти Л.Я.Лившица – www.levlivshits.org; см. также: Лившиц Л.Я. Вопреки времени: избранные работы / Сост. Б.Милявский и Т.Лившиц-Азаз. Иерусалим – Харьков, 1999; "О Леве Лившице: Воспоминания друзей" / Сост. Б.Милявский и Т.Лившиц-Азаз. Иерусалим, 2007; Лившиц-Азаз Т. У истоков советского бабелеведения: Лев Яковлевич Лившиц (1920–1965): К 50-летию первых публикаций // Исаак Бабель в историческом и литературном контексте: ХХI век. Сб. материалов Международной научной конференции в Гос. литературном музее 23–26 июня 2014 г. М., 2016 г.
2 Бабель И.Э. "Начало" // Избранное. М., 1957. С. 284.
3 Бабель на Волге. "Рассказ об одной экспедиции" // Стив Левин. С еврейской точки зрения. Иерусалим, «Филобиблон», 2010. С. 35.
4 Е.Погорельская. ХЖТ. С. 604.
5 Первый рассказ из конармейского цикла «Письмо» был напечатан в газете «Известия Одесского Губисполкома, Губкома КП(б) и Губпрофсвета» № 957 11.2.1923 г. ХЖТ. С. 611. Л.Я.Лившиц указывает, что «пять из тридцати четырех новелл, вошедших в первое издание «Конармии», печатались в одесских «Известиях» в феврале-мае 1923 года, затем в период с июня 1923 года по апрель 1925 года – еще двадцать семь. // Л.Я.Лившиц. К творческой биографии И.Бабеля // «Вопросы литературы». 1964. № 4. С. 119.
6 «В 1916 г. Бабель жил в Петрограде на квартире у Анны Григорьевны Слоним (1887–1954) и ее мужа, инженера Льва Ильича Слонима (1883–1945) (см. воспоминания Бабеля о Горьком “Начало” в сборнике “Избранное”. М., 1957). С той поры началась их многолетняя дружба. В 1927 г. на московской квартире Слонимов (на Варварке) Бабель написал сценарий комедии “Китайская мельница” (реж. А.Левшин, вышла на экран 13.7. 1928 г.)». Цитируется по: «Из писем к друзьям. Публикация и коммент. Л.Я.Лившица //«Знамя». 1964. № 8. С. 146. Подробно об обстоятельствах работы над этим сценарием см. «Бабель и Каширина».
7 Бабель Исаак. Письма к другу. Из архива И.Л.Лившица / Сост., подготовка текста, коммент. Е.И.Погорельской. М., 2007. С. 38
8 См. об этом: Жолковский А. «Полтора рассказа Бабеля: “Гюи де Мопассан”, “Справка/Гонорар”». Изд. 3-е. М., 2013. С. 54–59.
9 Подробнее об этом и об окончательном выборе И.Бабелем жизни в России, связанном с его профессиональными перспективами, см.: Г.Фрейдин. Вопрос возвращения II. «Великий перелом» и Запад в биографии И.Э.Бабеля начала тридцатых годов // LITERATURE, CULTURE AND SOCIETY IN THE MODERN AGE: In Honor of Joseph Frank. Stanford Slavic Studies. Vol. 4. Part II. 1992. С. 190–226.
Из книги Татьяны Лившиц-Азаз «Качели Надежды. Три сюжета из жизни Исаака Бабеля». 301 с. Глава 1-я. Изд-во «Геликон-Плюс», СПб, 2022. Книгу можно заказать по адресу [email protected]
ОБ АВТОРЕ
Татьяна Лившиц-Азаз родилась и выросла в Харькове. Высшее образование получила в Ленинграде, откуда в 1977 году вместе с семьей репатриировалась в Израиль. Доктор фармакологии Евр. Университета в Иерусалиме, автор нескольких десятков статей в международных научных журналах.
Совместно с Б.Л.Милявским выпустила сборник избранных литературоведческих работ отца, страстного и одержимого бабелеведа времен хрущевской оттепели, Л.Я.Лившица (1920-1965) – «Вопреки времени» (Иерусалим , 1998). С 2000 г. стала печататься в русскоязычной израильской и международной прессе. В 2020 г. в Иерусалиме вышел сборник ее очерков и мемуаров «Марва – это шалфей. Из иерусалимского дневника».
Елена Андрущенко, д.ф.н., проф., ИМЛИ им. А.М.Горького РАН:
«”…Главы из самого захватывающего романа, который я когда-либо читал”. Эти слова из письма Исаака Бабеля в полной мере относятся к пронзительной книге Татьяны Лившиц-Азаз, к ее глубоко личному, эмоциональному и умному повествованию о писателе. Книга помогает воссоздать малоизвестные обстоятельства биографии Бабеля и женщин, любовь которых освещала его жизнь и творчество».