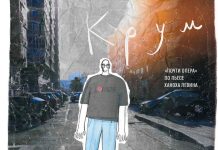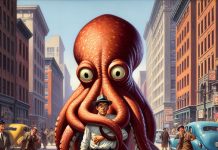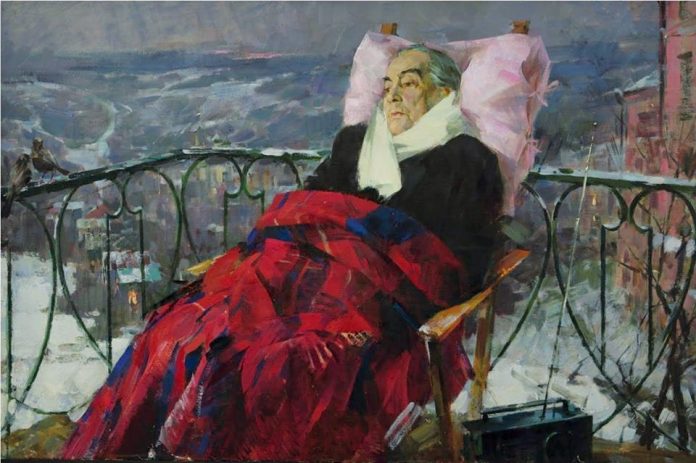Как этой еврейской женщине удалось выжить после неразрывной цепочки кошмаров, случившихся с ней наяву, трудно сказать. Но она выжила и рассказала о том, что творили с евреями немцы и их пособники
Матвей ГЕЙЗЕР
Глава из книги «Путешествие в страну Шоа»
Война закончилась, но в нашем доме она задержалась еще надолго. Воспоминания о той поре теснятся в моей памяти, заслоняя друг друга. Перед глазами снова Сара Браиловская. Каждый год в канун Рош а-шана, нового еврейского года (обычно выпадает на сентябрь-октябрь), она приезжала в Бершадь, останавливалась у нас, в дедушкином доме, и первым делом шла на кладбище «проведать» родных и знакомых.
В 50-е годы наш дом снесли (надо сказать, до той поры он был самым большим на окраине Бершади). На его месте построили исполком, но акации, посаженные дедом вокруг дома, сохранились, и все же дольше всего сохранились в моей памяти услышанные в том доме рассказы.
Даже сегодня, уже спустя более полувека, я все еще переживаю страх, вспоминая услышанное в те вечера от Сары Браиловской, когда она приезжала к нам погостить. Помню, после одного из таких рассказов, фактически подслушанного, я несколько дней отказывался от простой питьевой воды. И вот почему: однажды Сара вспомнила, как осенью 1941 года в Станиславчике (местечке близ Жмеринки) немцы «забавлялись» тем, что топили в колодце евреев, — так погибла ее школьная подруга вместе с родителями и детьми. Много месяцев спустя после окончания войны колодец пришлось засыпать: из него часто вытаскивали человеческие кости и лохмотья одежды.
Утром на следующий день, когда мама ушла на работу, Сара, видимо, уловив мое подавленное настроение, стала рассказывать истории, в ту пору казавшиеся мне забавными сказками. Прошли десятилетия, пока я узнал, что никакие это были не сказки, а хасидские предания, которые Сара слышала в детстве от своего деда — хасидского раввина из местечка Садогоры, что на Буковине.
Из этих преданий мне навсегда запомнился рассказ о Рафаиле Бершадском.
— Жил когда-то в Бершади один из самых умных людей на свете, — рассказывала Сара и уточняла, — он похоронен на другом еврейском кладбище, не на том, где твой папа (в действительности ребе Рафаил похоронен не в Бершади — М.Г.). Умер он больше ста лет тому назад. Вот как это случилось…
Одного жителя Бершади, отца троих детей, заподозрили в воровстве. Он отверг обвинение, призывая в свидетели праведного ребе Рафаила. Добрый ребе и хотел бы помочь бедняку избежать тюрьмы, но, догадываясь, что тот на самом деле виновен, лжесвидетельствовать не мог. Что делать? Всю ночь он провел в страстной молитве, ибо был убежден, что раввины должны молиться не только за праведников, но и за грешников. Если не молиться за грешников — значит не любить их. А если еврей не любит еврея, в таком случае Машиах (Мессия) никогда не придет на Землю…
Под утро ребе нашли мертвым. И мировой судья оправдал подозреваемого, сказав: «Если сам ребе Рафаил согласился быть свидетелем этого человека, значит, он хотел подтвердить его невиновность».
Легенды о Рафаиле Бершадском, о его воистину благих деяниях витали в Бершади всегда и даже долетали до мест весьма от нее далеких. Когда-нибудь я к этой теме еще вернусь, а сейчас продолжу рассказ о Саре Браиловской.
Преданий подольских хасидов она поведала мне немало, да так, что все они по сей день живы в моей памяти. Кто знает, почему она их так помнила и любила, какую роль они играли в ее судьбе? Может, помогали пережить ужасы, выпавшие ей на долю?.. Несмотря на жестокую судьбу, Сара держалась стоически долго, только все же не выстояла до конца – она оказалась в психиатрической больнице. Там и скончалась в начале 1991 года. Тогда ей было немногим более семидесяти.
* * *
Родилась Сара вблизи Ямполя, в маленьком местечке Черневцы, с трех сторон окруженном реками Мурафой и Мурашкой, впадающими в Днестр. Ранней весной, под Пасху реки становились полноводными, бурливыми, а в жаркое лето их можно было перейти вброд.
Местечка этого сегодня уже нет — евреи давно его покинули, а без евреев, как известно, местечко умирает, даже если остались дома и улочки. Но было время, когда на всю Подолию и далеко за ее пределами Черневцы славились большой красивой синагогой, построенной на берегу Мурафы. Высокая, необычная по своей архитектуре, похожая на крепость, синагога эта напоминала о величии Того, Кому она была воздвигнута.
Не только своим величием, но и легендами была знаменита эта синагога. Многие из них я услышал от Сары. От дедушки она узнала о приведениях, появлявшихся ночью под крышей черневецкой синагоги. Облаченные в белые саваны, они слетались к синагоге со всех сторон и проникали внутрь ее сквозь щели в стенах. Всю ночь в синагоге стоял гул молитв, песнопений. И лишь под утро, когда звуки эти исчезали, служка синагоги – звали его Шлоймеле — маленького роста, худой, с выпученными глазами бесстрашный еврей, с фонариком оббегал улочки и переулки местечка, зазывая жителей Черневец к утренней молитве: «Штейт ойф! Вставайте все!», — и призывал евреев в синагогу, дабы сказать слова благодарности Тому, Кто над ними. И произнести молитву «Шма, Исраэль!»
И еще рассказала мне Сара о черневецком сапожнике Янкеле, ставшем раввином. Всю жизнь он жил в бедности, с утра до ночи сидел в своей лавочке и чинил обувь. С бедных он денег не брал. Лампада горела в его хижине всю ночь – он углублялся в Учение. В особенности – в Каббалу. Никто в местечке не знал, даже не догадывался, что он – один из немногих праведников, на которых держится мир. И лишь когда не стало Янкеля, люди поняли, что это он спасал местечко от наводнений Мурафы, от пожаров, возникавших то тут, то там.
Янкель прожил больше ста лет, а когда его не стало, в молитвах в память о нем имя его произносили вместе со словами «наш мудрый Учитель».
Черневцы навсегда остались праздником в душе Сары. Даже в преклонные годы она любила вспоминать, как пробегала по длинному мосту через Мурафу в соседнее село, как играла там с крестьянскими девочками – многие из них разговаривали на идише. И еще Сара часто вспоминала о черневецких клейзмерах (еврейские народные музыканты), таких, по ее признанию, больше нигде не слышала. Днем многие из них работали парикмахерами, а по вечерам играли на разных инструментах. В Черневцах даже сложилась своя пословица:
«Если парикмахер не умеет играть на скрипке, то какой он парикмахер!» — со счастливой улыбкой рассказывала мне Сара.
В конце 20-х годов ее семья переехала в Хмельник. Здесь прошли ее отрочество, юность, молодость. В Хмельнике дивная красавица Сара вышла замуж за Иону Штейна — первого красавца в местечке, к тому же — и знаменитого на всю округу зубного врача. В 1939 году, во время финской кампании, его забрали в армию. С той поры ни Сара, ни их сын Мотеле больше его не видели.
О Хмельнике — рассказ особый. Когда-то это было одно из самых примечательных местечек Подолии. Оно славилось своими учеными мужами и раввинами. До Великой Отечественной войны Хмельник оставался в числе самых «еврейских» местечек в Украине — здесь жили почти десять тысяч евреев. Но 21 июля 1941 года пришли нацисты. Эвакуироваться успели очень немногие. Семья Сары Браиловской была среди тех, кто остался.
Вот что она поведала мне.
— В самом начале войны, в первые дни, как только эти бандиты пришли в Хмельник, они запретили евреям ходить на базар. А что кушать? Мы разве имели запасы картошки, муки, других продуктов? Кто думал о каких-то запасах, тем более в июле? Я другое скажу: ну, евреям нельзя покупать, а кому же крестьяне будут продавать?.. Всем было плохо. Сначала думали, что все эти приказы «для порядка». Но скоро с базарной площади по всему Хмельнику понеслись ужасные крики. Кто отважился купить на рынке продукты, того избивали нагайками, палками, ногами. Потом все же разрешили евреям покупать у крестьян — только горох и картошку…
Однажды Мотеле, сын Сары, пошел с другом на базар, и там им кто-то подарил мешочек с зеленым горохом. Они хотели съесть его побыстрей по дороге домой, да навстречу попался немец-полицай в сопровождении кого-то из местных. Увидев счастливых еврейских детей, аппетитно жующих горох, немец остановил их:
— Чему жидята так радуются?..
Его спутник что-то ответил ему по-немецки, а мальчишкам шепнул:
— Аклойфт гихэр! (Убегайте быстрее!)
Дважды повторять не пришлось — они бросились в разные стороны, выронили мешочек, и горошины покатались по земле. Немец догнал Мотеле, ударил его ногой в живот — ребенок задохнулся от боли, упал и с ревом стал кататься по земле. Немец жестами приказал крестьянину собрать горошины. Потом наступил Мотеле на живот, штыком открыл стиснутые зубы и стал засыпать, запихивать ему в рот этот горох. Вскоре в страшных конвульсиях мальчик скончался, задохнувшись. Было это в сентябре 1941 года.
К вечеру Сара вернулась домой — Мотеле не было. Соседи не знали, где он. Но по местечку уже пополз слух: немцы убили еврейского ребенка. Ничего не подозревая, но, видимо, что-то предчувствуя материнским сердцем, Сара отправилась на поиски сына. Она нашла его недалеко от базара и на руках принесла домой. На следующее утро тело мальчика, завернутое в саван, отнесли на кладбище. Миньян (для молитвы нужны не менее десяти мужчин старше 13 лет) собрать не удалось, так что вопреки существующему закону Сара сама произнесла поминальную молитву — кадиш.
Рассказ свидетеля смерти сына дошел до нее очень скоро, и она больше не смогла оставаться в Хмельнике — решила пойти к партизанам. Почти неделю добиралась Сара до Бершади в надежде найти партизанский отряд, который, по слухам, обосновался именно в тех местах. В лесу, в Пятковке, под Бершадью, ей повстречались двое мужчин, говоривших по-украински. Сара обрадовалась, что это не румыны, спросила у них дорогу к партизанам.
— Ходiмо з намы, гарна дiвчына, мы поведемо тэбэ до них.
Она доверилась…
«Попутчики» избивали ее, насиловали, издевались. Она молила их, чтобы убили.
— Сама здохнэшь, жыдiвка, — сказали они, бросив истерзанную Сару в лесу.
Как-то она все же добралась до Бершади. Там ее измученную, постаревшую приютил беженец из Бессарабии Исаак Балтер. На пути в Бершадь умерли его жена и две дочки — он остался совсем один. Исаак был намного старше Сары и обходился с ней, как с дочерью.
Вскоре выяснилось, что Сара беременна. Она сказала об этом Исааку.
— Если в такие трудные времена Бог дает ребенка, мы должны Ему быть благодарны, — рассудил он и добавил: — Был у нас в Сороках праведник Шлойме, так он часто повторял: «Еврейская мать – это посланник Бога на земле». Поэтому по нашим законам еврейство наследуется по матери, а не по отцу — рожай!..
Сара попыталась рассказать ему историю своей беременности, но Исаак ничего не хотел слушать. Он радовался, словно сам был отцом ребенка. И все же родиться младенцу было не суждено: румынский полицай, хотевший изнасиловать беременную Сару, ударил ее ногой в живот…
Ее подобрали на улице, истекающую кровью, и принесли к Исааку в хибару, сколоченную им из старых досок на затхлой улочке гетто. Он снова выходил ее, но ребенок погиб.
После освобождения Бершади Исаак Балтер решил вернуться в родные места и, конечно, звал с собой Сару. Но уговоры были напрасны, и, скрепя сердце, он уехал один. Позже и она покинула Бершадь и направилась в Одессу. Немало там намыкавшись, – а ей приходилось работать на джутовой фабрике, скитаться по общежитиям – Сара не только выжила, но и пришла в себя. Помню, в конце 40-х годов она прислала маме свою фотографию. Выглядела она молодо, была очень хороша собой.
В конце 60-х я уже жил в Москве и вдруг случайно узнал, что Сара Браиловская тоже живет в столице. Найти ее адрес не составило особого труда, и с тех пор, когда ко мне приезжала мама, мы непременно ходили к Саре в гости. Жила она на улице Приорова (это возле метро «Войковская»), одна – ее сын с невесткой находились в Новосибирске. У Олега – так звали ее сына – фамилия Бугаенко. Его отец, рабочий одного из московских заводов, как-то приехал в отпуск в Одессу и, встретив там Сару (это было вскоре после того, как она прислала нам свою дивную фотографию), влюбился в нее и уговорил поехать с ним в Москву.
В 1951 году у них родился сын — очень красивый и способный мальчик. Учился он в знаменитой московской школе имени Зои и Александра Космодемьянских, закончил ее с медалью, поступил в МГУ. В конце 70-х годов защитил кандидатскую диссертацию по математике и с молодой женой, Фирой Розенцвайг, уехал в Новосибирск – там были родители жены, и Олег как молодой ученый, по вполне понятным причинам, мог гораздо лучше реализовать себя именно там.
В небольшой двухкомнатной квартире Сары Браиловской в рамках довоенной поры были фотографии ее родителей и портрет мужа, к тому времени уже покойного. Портрет Мотеле в красивом обрамлении — на другой стене. На фотографии мальчику было лет пять-шесть. Сара с мамой подолгу, бывало, смотрели на этот портрет, и их усталые глаза наполнялись тоской… В разговорах они бесконечно возвращались к войне, которая стала частью их жизни.
Однажды Сара призналась мне: в осенние праздники, когда поминают умерших, она, по обычаю, на сутки зажигает у этих портретов свечи и заказывает в деревянной синагоге в Марьиной роще кадиш. По русскому мужу — тоже.
— Я надеюсь, что Бог, принявший от меня кадиш по Мотеле, поймет меня и простит, — сказала она.
Каюсь: после смерти мамы я перестал бывать у Сары — лишь изредка ей звонил. Не помню, было это в 1988-м году или в 1989-м, — вдруг раздался ее звонок: взволнованным голосом она говорила о неизбежности еврейских погромов в столице. «Будет хуже, чем при немцах», — запомнились мне ее слова. Вскоре после этого Сара позвонила мне снова: не просила — требовала, чтобы я приехал к ней немедленно. Как всегда, я был занят сверх головы, но отказать не мог.
Сару я застал в ужасном состоянии: беспокойный, блуждающий взгляд, странная речь. Она сбивчиво говорила, что телеграммой вызвала сына, потому что вскоре ее посадят в тюрьму. Из сумбурного, невнятного рассказа уловил, что недавно у нее побывала женщина, некогда жившая в Бершади, которая просила Сару подтвердить, будто и она была в гетто. Эта женщина собиралась уехать в Германию и хотела иметь там гарантированную пенсию.
Сара была не из лгунов, и сказала той женщине прямо, что обманывать в этом случае – не только грех — преступление.
— И вообще, как можно ехать к немцам! — возмущалась она. — И как я могу быть твоим свидетелем?! Когда убивали моего Мотеле, ты с мамой и сыном была где-то на Урале, а твой папа был активистом Жмеринского гетто. Слава Богу, он до сих пор жив!..
— Какое тебе до всего этого дело? — озлобилась она на Сару. — Я тебе как следует заплачу!
После этих слов Сара Браиловская в гневе набросилась на нее с кулаками. Та попыталась убежать, но Сара догнала ее и ударила молотком, который, как нарочно, оказался тут же, на подоконнике. К счастью, удар оказался легким. На шум из соседних квартир выбежали люди. Одни из них затолкали разъяренную Сару домой, другие проводили ее «гостью» до остановки троллейбуса.
После этого Сара перестала выходить на улицу, продукты ей приносили соседи, но она отказывалась от еды.
Вскоре приехал Олег. Несколько дней он пытался успокоить, отвлечь Сару от тяжелых переживаний, но безуспешно: все же пришлось ее госпитализировать в одну из известных московских психиатрических больниц.
Я навещал ее в больнице. Сара меня всегда узнавала. Обычно я заставал ее сидящей в коридоре на банкетке, где, покачиваясь, она монотонно твердила по большей части одни и те же слова:
— Я же говорила тебе, что попаду в допр — «тюрьму» (идиш)… Нет, не жалею… Я добила эту гадину!.. Она ко мне приходит сюда с того света, но я плюю ей в лицо и продолжаю бить!..
Бывали минуты, когда рассудок к Саре возвращался. Взгляд ее становился осознанным, речь логичной. Однажды, глядя мне пристально в глаза, она спросила:
— Марик (так близкие зовут меня всю жизнь), ты, конечно, знаешь, что в истории евреев было немало случаев, когда нас спасали женщины. Дедушка тебе, наверное, рассказывал про красавицу Юдифь. Ты помнишь, что она сделала, когда Олоферн, завоевавший много стран, хотел поработить евреев? Помнишь? Она влюбила в себя этого убийцу, а потом отрезала ему голову. И наш народ, обреченный в который раз, опять победил…
И сегодня вижу ее утомленные глаза, воспаленные веки, пунцовые щеки, дрожащие губы. Было понятно, что в тот день долго мне оставаться нельзя: возбужденность Сары росла, а это грозило обернуться обострением болезни. Я поднялся и почувствовал: взгляд женщины пронзает меня насквозь.
— Марик, ты, наверное, думаешь, что я сумасшедшая?.. Если бы это было правда, я сидела бы не в этом допре (тюрьме – М.Г.), а в сумасшедшем доме в Виннице…
«Бедная Сара!» — подумал я, но вслух, слава Богу, не произнес.
Последний раз я побывал у нее незадолго до наступления нового, 1990 года. В тот день она снова вспомнила гетто в Хмельнике и говорила, что Мотеле якобы хвалил ее за то, что она убила «ту гадину». А потом какой-то невероятной скороговоркой Сара поведала мне о страшных днях хмельниковского гетто. Такого забыть нельзя. Уверен, это был не бред.
В декабре 41-го, в очень холодную зиму — такую в Хмельнике еще не помнили, немцы вывесили приказ: евреи должны сдать одежду для воинов Германии. А что они могли отдать, если своих детей не во что было закутать? Тогда гестаповцы арестовали несколько женщин, раздели их догола и бросили в лёх (холодный погреб), а там глумились над ними, сколько хотели, сколько хватило их поганых сил: били, насиловали, снова били. Потом, уже умирающих, выбросили на улицу. Не удивительно, что не выжила из них ни одна. Родственники выкупили у полицаев обледенелые женские трупы.
В январе 1942 года в Хмельник прибыл шеф гестапо — то ли из Литина, то ли из Литичева — и потребовал, чтобы все евреи Хмельника переехали в старую часть местечка, отведенную под гетто. На следующий день, точнее, ночью, сонных людей повыгоняли из домов и повели по Улановской дороге в сосновый бор. Тех, кто не мог идти, убивали прикладом или пристреливали на месте. Страшнее всего было смотреть, как со взрослыми шли в этот путь дети. Скоро всех подвели к большой свежевырытой неглубокой яме, заставили раздеться… Так были убиты почти все евреи Хмельника.
Сара умолкла. Ее горящий и все же осмысленный взор жег меня еще какое-то время. И вдруг словно дымка коснулась ее еще красивых глаз:
— Скажи, Марик, после всего этого можно ехать к немцам?.. Я правильно сделала, что убила эту гадину, да?!
Что я мог ей сказать ей?..
Многое мне довелось услышать от Сары, когда к ней возвращался рассудок. Воспоминанья эти были не просто страшны — чудовищны. И какой же мощью должен обладать человеческий рассудок, чтобы, нося в себе весь этот кошмарный груз, не разрушиться спустя многие годы!
Я вышел из больницы, но душевная боль, спрессованная в ее атмосфере, не отпускала. И, зашагав по улице, уже в которой раз я подумал: «Какая горькая ирония в том, что этот приют расположился на Потешной улице…»
В больнице Сара Браиловская пробыла недолго, но выйти было не суждено. Похоронили ее на еврейском кладбище в подмосковной Малаховке. После похорон я больше не бывал на ее могиле, но это не означает, будто Сара перестала для меня существовать, — во сне она приходит ко мне живая и рассказывает хасидские легенды.
Выражаем благодарность дочери Матвея Гейзера Марине за предоставленные нашей редакции архивы известного писателя и журналиста, одного из ведущих специалистов по еврейской истории.