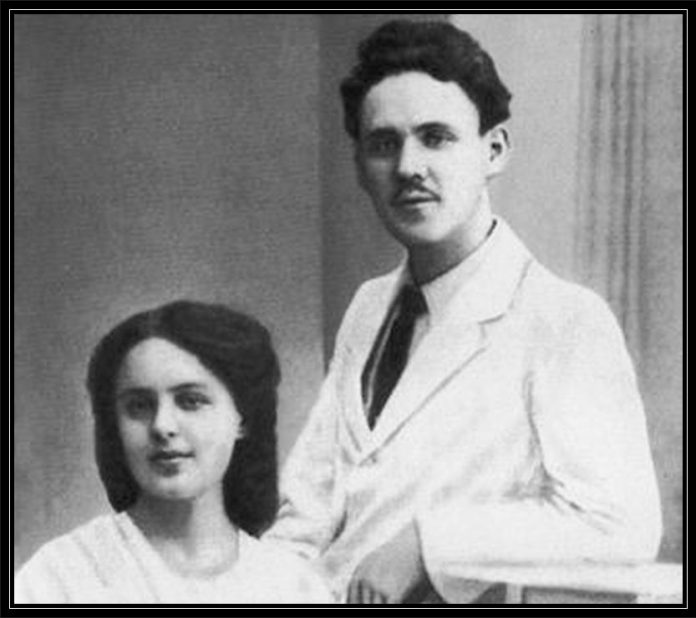
О "юношеском сионизме" и о «простительной трусости» позднего Самуила Маршака
Матвей ГЕЙЗЕР
Бег времени неумолим… Творчество Самуила Яковлевича Маршака, поэта, не только продолжает жить сегодня, но обрело вторую молодость. В 1966 году, то есть через два года после кончины Маршака литературовед Борис Сарнов написал книгу об ушедшем поэте. Есть в ней такое утверждение:
«Место, которое занимал Маршак в литературоведческой табели о рангах, определилось давно. Это было весьма достойное место, и со смертью поэта оно не стало ни более, ни менее достойным».
Так ли это? Сегодня, когда переоценка ценностей стала залихватской модой, порой выгодным занятием, находятся и такие, кто позволяет себе писать о Маршаке не только плохо, но и оскорбительно. В подтверждение приведу лишь один пример.
«Человек этот, написавший кучу страниц, слывший мэтром не только официально, но и среди приличных и одаренных людей, не написал ни одного живого слова. Он ни разу не вскрикнул, не заплакал, не выругался – ни в переводах, ни в оригинальных стихах. Читать его — утомительнейшее занятие…
…Безоговорочная лояльность Маршака в самые разные времена… — это не только простительная трусость, но главным образом просто характер… Вписываться было у него в крови, мягко, беззубо, бесчувственно укладываться в любую готовую форму…», — это из заметок советского и израильского писателя Юрия Карабчиевского о Маршаке.
Читайте в тему:
Между тем, о ранних стихах Маршака тепло отзывались Анна Ахматова, Александр Блок.
«В 1910 году я был у Блока дома на Галерной улице. В небольшом и скромном его кабинете я, волнуясь, читал ему свои стихи. На его строгом, внешне спокойном лице нельзя было прочесть, что он думает о моих стихах. А потом он сказал мне несколько добрых и приветственных слов, но тоже строго и сдержанно», — писал Маршак в своей автобиографии.
За много лет до встречи с Блоком, в 1902 году, В.В.Стасов «угощал» юным поэтом своих гостей. Из воспоминаний В.В.Стасова:
«Было… много музыки и пения, и фортепиано… Но начал я весь вечер, после того, как кончилась разноска чая, прямо Маршаком. Я поставил его перед окном залы, дал ему в руки стул для прочной и надежной позиции, и он пошел, пошел, пошел прямо вскачь с места, настоящими pas de geants (гигантскими шагами)! Повально вся наша компания (Кюи, Глазунов, Лядов, оба Блуменфельда и т.д., и т.д.) была им просто поражена. С ним стали все сразу обращаться как с настоящим большим поэтом, а не с маленьким мальчишкой… Да, этот мальчишечка, если проживет и не собьется с рельса, будет что-то крупное!»
Вскоре, в 1904 году, В.В.Стасов, прочитав в журнале «Еврейская жизнь» стихотворение Маршака «20 Таммуза», написал ему: «Искренне поздравляю тебя с первым напечатанным твоим стихотворением. Оно прекрасно». Стихотворение это посвящено памяти основоположника сионизма Теодора Герцля. Вот несколько строк из «20 Таммуза»:
Наш свет, наш день угас, и солнце огневое
Сокрылось прочь…
Пожрала тьма его – и все покрылось тьмою,
И снова ночь…
Я знаю: нет его. Но разум мой в раздоре
С моей душой,
И новое мучительное горе
Я не могу вместить, глубокое, как море,
В груди больной…
Это стихотворение, как и многие другие произведения Маршака на библейскую и еврейскую темы, — подтверждение тому, что творчество Маршака, чьи произведения, собрания сочинений издавались и издаются миллионными тиражами, автора, о котором написаны исследования, книги, и сегодня, спустя сорок лет после его смерти, не изучено. Осмелюсь заметить: по-настоящему Маршака еще не прочли. Между тем библейская и еврейская темы занимают в его творчестве очень значимое место. Остановимся на том, что еврейская муза Маршака оставалась тайной и для людей, полагавших, что близко знают его. Ученик Маршака, поэт Л.Друскин, в своей «Спасенной книге» пишет:
«В ящике письменного стола и сегодня лежит растрепанный Псалтырь, который он (Маршак – М.Г.) берег как зеницу ока.
А вот сионистскую заразу выжег до основания, и о трагедии еврейского народа во время войны нет у него, к сожалению, ни единой сочувственной строки».
Первая часть этого утверждения лишена оснований, вторая – полная выдумка. Но пусть она остается на совести ученика Маршака.
А вот отрывок из воспоминаний поэта Арона Вергелиса:
«Не многим сегодня известно, что Маршак начал с маленькой книжечки «Сиониды». Еще молодым пареньком написал он ее. Я принес ему как-то эту книжечку и сказал: «Вот ваша первая книжечка». Он был до крайности озабочен: «Голубчик, неужели я не все уничтожил?..»
Здесь уместно вспомнить древнеримское изречение «Poeta semper tiro» («Поэт всегда простак»); но, увы, жить Маршаку довелось не в Древнем Риме, а в стране, где быть таким «простаком», да еще при этом и евреем (даже для человека, значащегося в БСЭ как «выдающийся русский поэт») — удел далеко не простой. А уж за причастность к сионизму можно было не только оказаться на Соловках, но и поплатиться самой жизнью. И с этой точки зрения реакция Самуила Яковлевича на «подарок» Вергелиса — более чем естественна. Ведь помнил он, знал, что не где-нибудь за рубежом, а в России советской вскоре после революции, в 1918 году, в сборнике «У рек Вавилонских» был опубликован его цикл стихов «Сиониды». Есть там такие стихи:
Снится мне: в родную землю
Мы войдем в огнях заката
Запыленную одеждой,
Замедленную стопой.
И войдя в святые стены,
Подойдя к Ерусалиму,
Мы безмолвно на коленях
Этот день благословим…
Трагическая история еврейского народа в юности, в молодости волновала Маршака. И то, что он сблизился с молодежной организацией «Поалей-Цион» сионистов-социалистов вполне объяснимо. Вот строфа из его стихотворения «Две зари» (Молодому еврейству):
Наш старый Храм горел. Пылала вся страна,
И ночь пред пламенем бушующим бежала
И рамкой черною, казалось, окружала
Картину зарева она…
Лишь кажется, что эти стихи о глубокой древности — они созвучны времени их написания – началу ХХ века. В августе 1905 года в письме Е.П.Пешковой, жене Горького, Маршак писал:
«В Житомире второй погром. Один драгунский офицер изрубил на мелкие куски еврейскую девушку… Самооборона бессильна. Сколько молодежи погибло в самозащите. Совсем юной, моего возраста».
* * *
Заметим: через сорок пять после «стасовского пророчества» и за сорок с лишним лет до глубоко субъективной, на мой взгляд, оценки творчества Маршака Юрием Карабчиевским вождь советских писателей Фадеев так сказал о поэзии Маршака:
«Маршак идет в нашей поэзии именно по этой пушкинской линии. Если искать родство его стихов с какими-нибудь стихами в прошлом, то они, прежде всего, родственны пушкинскому стиху. И пусть это парадоксальное мое утверждение не будет вами принято в том смысле — а что похожего у него на «Полтаву» или на «Я помню чудное мгновенье»? Пусть это будет понято в том прямом и в то же время сокровенном смысле, в каком я сказал: творчеству Маршака присуща пушкинская ясность стиха, прозрачность, отсутствие литературщины, принятие стиха лишь тогда, когда он может с одинаковой ясностью и прозрачностью дойти до любого читателя».
Эти качества, по мнению Фадеева, делают Маршака «…поэтом совершенно необыкновенным, незаурядным, исключительным и именно поэтому дают право называть его одним из лучших писателей и поэтов современности».
В качестве иллюстрации этой мысли Фадеева процитируем малоизвестное сегодня одно из лучших стихотворений Самуила Яковлевича Маршака из цикла «Палестина»:
Иду за первым караваном.
Поют бегущие звонки,
и золотистым океаном
чуть слышно зыблются пески.
Полдневный путь в истоме зноя
я вспоминаю, как во сне.
Но помню сладкий час покоя
и шелест листьев в тишине.
Бежит из камня ключ прохладный,
журчит невинно, как в раю.
И пьет, склонившись, путник жадно
его прозрачную струю.
И открывается нежданно
за пыльной зеленью оград
лимонов сад благоуханный,
растущий пышно виноград…
Вернусь к мысли Юрия Карабчиевского и иже с ним, утверждающих о «простительной трусости» Маршака. Напомню о том, как Самуил Яковлевич защищал Солженицына. В воспоминаниях Р.Орловой и Л.Копелева есть такой эпизод: Твардовский, решив опубликовать в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича», «действовал мудро и хитро: собрал отзывы самых именитых писателей. Корней Чуковский назвал повесть литературным чудом. Маршак писал, что «мы никогда себе не простим, если не добьемся публикации»…»
А спустя несколько лет, во времена «тихого» террора среди тех, кто подписывал воззвания в защиту Иосифа Бродского, наряду с подписями А.Ахматовой, Д.Шостаковича, К.Паустовского и других была подпись С.Маршака. (Заметим, что А.Твардовский, А.Солженицын, И.Эренбург под этим воззванием не подписывались, полагая, «что это дело вовсе не заслуживает таких усилий, такого шума»).
В недавно вышедшей огромной антологии советской поэзии, составленной Витковским и Евтушенко, не нашлось место для стихов поэта Маршака. Может быть, Евгений Александрович так поступил в знак благодарности за стихотворение Маршака «Мой ответ» (Маркову). Немногие тогда отважились защитить молодого Евтушенко после его «Бабьего Яра», а Маршак написал такие стихи:
Был в царское время известный герой
По имени Марков, по кличке «второй».
Он в Думе скандалил, в газете писал,
Всю жизнь от евреев Россию спасал.
Народ стал хозяином русской земли
От марковых прежних Россию спасли.
И вот выступает сегодня в газете
Еще один Марков, теперь уже третий.
Не мог не сдержаться «поэт — нееврей!».
Погибших евреев жалеет пигмей.
Поэта-врага он долбает ответом,
Завернутым в стих хулиганским кастетом.
Таких поступков в жизни Маршака было немало. В биографическом очерке о репрессированном поэте Николае Олейникове его сын сообщает, что после ареста отца 11 ноября 1937 года «…в Белом зале Союза писателей состоялось собрание. Выступавшие потребовали от С.Я.Маршака, чтобы он отрекся от шайки врагов народа. Этого не произошло»…
Вот комментарии к моей статье «Еврейская муза Маршака», опубликованной в Израиле в 1990 году, Д.Нахмановича, родственника Маршака, живущего в Израиле:
«Несмотря на то, что Маршак был очень напуган сталинским террором, особенно после убийства Михоэлса, ареста писателей и антифашистов-евреев, он… передавал крупную сумму денег для поддержки созданных в Каунасе и, кажется, в Вильнюсе интернатов и садика для еврейских детей-сирот, родители которых погибли от рук нацистов… Знаю, что позже, в конце 1945 и в начале 1946 года, когда началась организация, конечно, нелегальная и конспиративная, переправки этих детей через Кенигсберг (Калининград) в Польшу, а оттуда в Израиль (тогда еще Палестина)… Маршак вновь прислал для этих целей большую сумму денег. Он сам занимался сбором средств у своих близких и проверенных людей… Он получал на эти цели деньги от генерала Красной Армии Сладкевича, академика Невязежского, а также от писателя Твардовского».
Читайте в тему:
Поэт, чье творчество удостоилось внимания и одобрения в столь разные времена и от таких непохожих по сути своей "собратьев по перу" (назовем лишь Стасова, Гусева-Оренбургского, Горького, Ахматову, Фадеева и даже Карабчиевского), естественно, не раз размышлял о своем "памятнике нерукотворном", заведомо зная, что памятник такой будет. Свидетельством тому – его лирическая эпиграмма, написанная незадолго до смерти, в 1963 году:
Я думал, чувствовал, я жил,
И все, что мог, постиг.
И этим право заслужил
На свой бессмертный миг
Окончательно судить о праве поэта С.Я.Маршака "на свой бессмертный миг" даже и сегодня, наверное, еще рано, но уверен, след его блистательного таланта останется в русской литературе ХХ века, а его значимость в той литературе, которая, несомненно, существует и называется «русско-еврейская», воистину не преходящая.
Выражаем благодарность дочери Матвея Гейзера Марине за предоставленные нашей редакции архивы известного писателя и журналиста, одного из ведущих специалистов по еврейской истории.




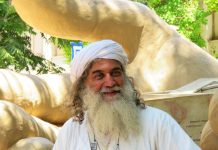

















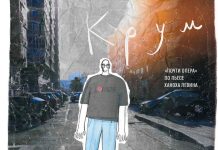






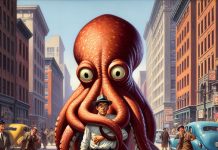








Псалтирь, наряду с Торой, основополагающая книга иудаизма.