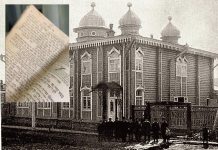9 ава — напоминание о нашей eвpeйской сути и о вечной связи души с Небом
Лея АЛОН (ДУБНОВА)
«Живу в двух мирах: нынешнем мире кризисов и в былом, среди гула готовящихся общественных взрывов и среди руин былых храмов, разрушенных давними взрывами… Сегодня вечер Тиша бе-ав, и я сижу над старым "Кинот". И читаю любимую элегию: "В эту ночь рыдают Мои дети, в эту ночь был разрушен Мой Храм и сожжены Мои дворцы"».
Так явственно передал Шимон Дубнов состояние души, её способность жить в мире прошлого, ощущать боль по тому, что давно ушло, и одновременно быть глубоко причастным ко всему, что происходит в реальном мире. Для него, историка, как некогда для пророков, время было единой рекой, и он плыл вместе с ней. Когда над нами сгущались сумерки, он повторял слова Ирмияху:
«Это бедственное время для Яакова, но он будет спасён».
Старые и никогда не стареющие «Кинот»… Плач о разрушенном Храме… Сколько веков прошло, а рана напоминает о себе, она так до конца и не зажила. Две тысячи лет не принесли ей настоящего облегчения. Ты ощущаешь эту неутихающую боль у Стены Плача. Чувство печали словно разлито в воздухе. Люди сидят, как в день траура, на чём-то низком, а чаще прямо на каменных плитах. На коленях раскрытые книги. У кого-то «Кинот», у кого-то «Эйха» («Плач Ирмияху»). Всех объединяет общая скорбь. И слова пророка о той, далёкой трагедии, проникают глубоко в душу.
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
«Как одиноко сидит столица, некогда многолюдная… уподобилась вдове. Плачет, плачет она по ночам, и слёзы на щеках у неё. И нет ей утешителя среди всех любящих её, все друзья изменили ей, стали врагами её» («Эйха»).
Солнце стоит высоко над головой, и небо кажется выцветшим. Камень стены светлый, почти белый. И всё вокруг отражает скрытую напряжённость. Жарко. Но тот, кто пришёл к Котелю, не ест и не пьет: пост 9 Ава длится весь тяжёлый летний день.
Стена Плача, Западная стена Храма – всё, что осталось нам от былого величия и былой святости, которую воплощал Храм. На небольшом пространстве сконцентрировалась память о событиях нескольких тысячелетий, настолько значимых для судьбы народа, что равных им не найдёшь в нашей истории. Земля хранит тяжёлые многотонные блоки, упавшие с Храмовой горы, булыжники мостовой, которая пролегала здесь две тысячи лет тому назад, стену Первого Храма.
Но не от древних камней – ощущение связи с этим местом. Это пласт памяти иного, духовного характера. Наша связь с Храмовой горой родилась задолго до того, как царь Шломо возвёл на ней Первый Храм. Однажды Бог избрал гору Мория и повелел Аврааму принести на ней в жертву всесожжения самое дорогое, что у него есть, – своего единственного сына Ицхака. И, быть может, как награда за верность и готовность к самопожертвованию, спустя века здесь был возведён Первый Храм, а потом, после его падения, – Второй.
Так было всегда: мы освящали свой союз с Богом и только потом, вслед за духовной связью, рождалась связь материальная, земная. Но с той минуты, как Бог испытал Авраама, Он именно здесь вновь и вновь испытывал свой народ. И когда мы далеко отходили от Завета, были недостойны святости этого места, нас словно выбрасывало отсюда незримой и властной рукой. Очень точно передал потерю этой связи Уру Цви Гринберг: «И то, что Тит рассёк мечом, Всевышний не соединил. И рана эта шире, чем времени чудовищный оскал».
Подобно огненному смерчу, который, обрушившись на землю, надолго оставляет о себе горькую память, падение Храма оставило свой неуничтожимый след на всей нашей судьбе. Мы стали народом-скитальцем, народом-изгнанником. Нигде не знали покоя, были изгоями и страдальцами.
Иосиф Флавий в своей книге «Иудейская война» оставил взволнованное, полное горячих чувств, повествование о падении Иерусалима и Храма. Вот один из фрагментов: «Храмовая гора словно пылала от самого основания, так как она со всех сторон была залита огнём; но ещё шире огненных потоков казались лившиеся потоки крови». Всё происходило здесь: сверху, с горы, падали к её подножью камни, лилась кровь, и огонь охватывал некогда многолюдные магазины и лавки менял. Иосиф Флавий наблюдал за сражавшимся Иерусалимом из стана противника. Он, купивший жизнь ценой предательства, обуреваемый стыдом и болью, взывал к своим братьям-евреям, умолял сдаться без боя в надежде сохранить Иерусалим и Храм. В ответ они оскорбляли его, направляли в него стрелы, обрушивали на его голову проклятия. А он вбирал в себя всё увиденное, чтобы оставить будущим поколениям картину гибели Иерусалима и, быть может, тешил себя надеждой, что ему как историку и свидетелю событий будущие поколения простят измену. И действительно, страницы его «Иудейской войны» пережили века и донесли до нас правду о борьбе маленькой Иудеи против великого Рима. Иосиф Флавий называет защитников Иерусалима разбойниками, мятежниками, но не скрывает своего восхищения их мужеством.
«Видя эту силу духа, которой обладают иудеи и которая возвышает их над внутренним раздором, голодом, войной и другими несчастьями, римляне начали считать их жажду брани непреодолимой, а их мужество в перенесении несчастья – нескончаемым».
Об их мужестве ещё напишут римские историки. Рим ещё ждёт Гамла, три тяжелейших года борьбы с Масадой, восстание Бар-Кохбы… Пока же перед ними Иерусалим. Он отчаянно борется, но всё тяжелее и тяжелее отразить атаки легионеров, всё меньше и меньше надежд, что город выстоит.
«И легионы ринулись в Храм, и уже ни приказы, ни угрозы не могли предотвратить бесчинства: бешенство овладело армией. Сбитые в кучу в проходах, солдаты топтали друг друга, и победители погибали той же жалкой смертью, что и побеждённые…»
Но это ещё не конец. Иосиф Флавий, создавая картину гибели Храма, пишет:
«Господь уже обрёк Храм огню. Судьба повернула колесо истории… Евреи, увидев поднявшиеся языки пламени, испустили душераздирающий крик и ринулись тушить огонь, не щадя ни сил, ни жизни, ибо то, что они столь преданно охраняли, исчезало у них на глазах».
Эти строки рождают чувство боли за твоих погибающих братьев, за осквернённый, горящий Храм, за Иерусалим, разрушенный, но сражающийся из последних сил. И ты понимаешь: решается судьба не только тех, кто заперт в осаждённом городе, но и всех ещё не рождённых поколений. Здесь берёт начало исток будущих Катастроф, которые спустя века обрушатся на нас. И кажется это мы, а не они, стоим перед развалинами Храма. Он объединял нас, был нашей гордостью перед всем миром, воплощал величие и святость, родину и просто дом. За него мы готовы были отдать жизнь. Он в огне. А вокруг – бедствие и разрушение. Разве не предсказывали пророки, что придёт этот день, и мы станем народом-изгнанником? Разве пятьсот лет назад, в этот же месяц ав и в этот же день 9 Ава, не был разрушен Первый Храм, а народ пленён Вавилоном? Кто хотел тогда слушать Ирмияху, его пророчество о разрушении Храма? Он только раздражал своими проповедями, стоя на площади перед Храмом, и голос его то возвышался, то опадал до шёпота: «…слушай же, народ, неразумный и бессердечный, у которого есть глаза, а не видят, есть уши, а не слышат…» С ним были очень жестоки: однажды его приговорили к смерти, но испугавшись возмездия Свыше, оставили жить; в другой раз после проповеди, предрекающей разрушение Иерусалима и Храма, бросили в глубокую яму без еды и питья, чтобы он молчал и не будоражил народ. Но он продолжал взывать к ним, их совести, справедливости, напоминая о Завете. Всё было тщетно. Его не хотели слушать. Наступил час, когда народ вспомнил пророка, но было поздно…
И, кажется мне, что я слышу другой голос и другую мольбу.
Нет, Жаботинский не был пророком. Он не взывал к морали и совести, напоминая о Боге. Но однажды, в далёкие годы юности, ему было видение Варфоломеевой ночи. И когда надвинулся на Европу огненный вал, выжигая всё на своём пути, он, подобно пророку, предвосхищающему опасность, умолял евреев Польши бежать.
– Хотите, – говорил он, – я стану перед вами на колени, только бегите. Оставьте всё и бегите. Спасайтесь…
Вот евреи мои…
Ах, как много их в Польше –
И падает, падает снег…
Торговцы, маклеры и продавцы,
Сапожники, портные, мудрецы –
Люди воздуха и духа.
Так Ури Цви Гринберг писал о тех евреях, к которым обращался Жаботинский. Как много их было в Польше… Где они все? «Размят еврей, раздавлен и разрезан… И падает снег, и морозы лютуют», – писал Гринберг, душа которого помнила всё: и как горел Храм, и как погибал его народ. Боль по Храму жила в ней, не утихая. Разрушение прошло через его плоть и кровь. И голос звучал так же гневно, как у пророков: «Прокляты будьте, вожди-лжецы, /Воркующие: мир в Сионе…» Теми же словами клеймил Ирмияху лжепророков 2600 лет тому назад: «Раны народа моего врачуют они с лёгкостью. Говорят: мир! Мир! А нет мира», – как будто между Ирмияху и Ури Цви Гринбергом не пролегли века изгнания. Но и мы с тех пор тоже мало изменились: наши глаза открыты, но не видят, наши уши слышат, но не внимают.
Уже много лет я прихожу к Стене Плача 9 Ава. Меня, как и тех, кто пришёл сюда, ведёт беспокойная память. И я испытываю чувство единения с ними. И когда чей-то шёпот и чья-то боль прорывается в молитве, я ощущаю невольное волнение. Белеют записки, вложенные в расщелины. Они, как светлый ручеёк между скал: каждый вкладывает в них свою мольбу и надежду. И твоя рука, как и рука стоящего рядом, тянется к поверхности камня, будто хочет ощутить его тепло и унести с собою, чтобы потом ещё долго оно грело тебя… Здесь глубока молитва, и хотя ты никогда не бываешь один, окружение не мешает тебе, ибо ты наедине с Ним. А люди идут и идут. И невольно чувствуешь себя частицей этого живого моря, которое, как вода во время прилива, всё прибывает и прибывает.
Но однажды привычное течение 9 Ава – с молитвами, чтением траурных свитков – было нарушено. Как будто память материализовалась, и на какие-то мгновения прошлое стало явью. Сверху, с Храмовой горы, на нас полетели камни. Мы бежали беспорядочно, как разбегаются овцы, завидев волка. В считанные минуты площадь перед Стеной Плача опустела. И тогда стали видны камни, которые в нас бросали. Ими была усеяна вся площадь. Позже, когда нам разрешили вернуться к Котелю, мы рассмотрели их. Камни были как на подбор: небольшие, сероватого цвета, заострённые с одной стороны. Мне они напомнили баллисты, которыми римляне обстреливали осаждённый город. Их подкрашивали в тёмный цвет, в полёте они становились незаметны и убивали сразу многих. Камни всегда были оружием.
И хотя полицейские довольно быстро справились с теми, кто был на Храмовой горе, чувство униженности осталось. Ты бежал, бежал от своей святыни под градом камней, а они, сверху глядя на тебя, смеялись. И горькой иронией наполнялись слова Моты Гура: «Хар а-Баит бе-ядейну» – «Храмовая гора в наших руках».
Как прекрасен был лик победы! Она пришла, как приходит радость через страдание, как луч солнца, ворвавшийся в пасмурный осенний день. Она подарила всему свой особый свет. И он озарил лица людей. В одно из таких мгновений фотоаппарат выхватил лицо Шломо Горена. Генерал-майор, главный раввин Армии Обороны Израиля, он словно плывёт на плечах у солдат на фоне древних камней Стены Плача. В этом лице – отблеск победы, сияние счастья: через две тысячи лет Бог вернул нас на Храмовую гору – теперь навечно…
Удар последовал почти сразу: письмо от министерской комиссии Кнессета, предупреждающее, чтобы он прекратил все попытки молиться на Храмовой горе и разговоры о возведении там синагоги. Рав Горен был потрясён: гора Мория, Божия Гора, на которой произошло жертвоприношение Авраама, к которой обращены все наши молитвы, Святая Святых народа, место, освященное за тысячелетие до рождения Иерусалима, и нам, евреям, одержавшим победу, правительство запрещает здесь молиться… Его письмо не осталось без ответа:
– Да, – согласились с ним, – это место, действительно, свято для нас с древности и до наших дней, но… надо действовать хладнокровно и осторожно, чтобы не задеть чувства мусульман всего мира…
Арабы, хвастливо кричавшие на весь мир, что уничтожат Израиль и страну зальют кровью, проиграв войну и боясь возмездия, готовы были бежать куда угодно. Но возмездия не последовало. Наоборот, мы «наградили» их ключами от нашей святыни, и они тут же закрыли ворота. И тогда Шломо Горен написал второе письмо. Оно было настолько убедительным, что армия вновь вошла на Храмовую гору. С тех пор Святая гора охраняется нашей армией, но, по сути, находится полностью в ведении арабов. Археологи, не имея к ней доступа, подобно копающимся в отбросах нищим, просеивают тонны строительного мусора, выброшенного в Кедронскую долину с Храмовой горы. И, только благодаря верности своей профессии и любви к этой земле, спасают драгоценные находки времён Первого и Второго Храмов, которым суждено было навсегда затеряться…
«Твоё войско вернулось к уделам извечным», – писал Ури Цви Гринберг в «Балладе радости на грани плача». «Вновь стоят на границах от моря до моря! /Твой народ в одеяниях царских…» И тебе словно передаётся ощущение взлёта, радости без границ, гордости за свой народ. Но, как стон, как тяжкий вздох, как плач, вырывается из глубины души, потрясённой горьким унижением:
И ужаснулся я: там вражий купол
Тяжёлым жёлтым золотом гноится –
Боль моего позора, рана, что нанёс мне Тит, –
На месте Храма, что разрушен!
И, вниз с горы спускаясь, я сказал:
«Пока такое на Горе Святой – нет Избавленья!»
(Перевод – П.Гиля)
Он пережил минуты унижения, когда израильский офицер попросил его, облачённого в талит для молитвы, немедленно спуститься вниз: «Здесь, – сказал он, – святое место для мусульман».
Знал ли израильский офицер о святости Храмовой горы для евреев, о том, сколько здесь пролито крови, сколько веков надежды и мечты связаны с ней? Моше Даян, написавший книгу «Жить с Библией», влюблённый в археологию, хорошо знал историю Эрец Исраэль. Но для него, израильтянина, Библия была лишь национальным эпосом, она не прошла через его душу, не ввела в длинную цепь наших предков. Он не стоял вместе с ними у горы Синай и не проникся чувством святости этой земли. Еврей, родившийся и выросший на этой земле, он не имел глубоких корней, для него, израильтянина, Храмовая гора была чужим ненужным балластом. И он отдал ключи от неё арабам. Только он забыл, что Святая гора – не его собственность, и нет у него права распоряжаться ею.
Ещё далеко до отдачи Синая, ещё только маячат на горизонте Осло и изгнание евреев из собственных домов, разрушение поселений в Гуш Катифе, разгром синагог, ешив и мидрашей не снится даже в страшном сне, и Сдерот ещё не знает, что его ждут ракетные обстрелы, запустение и трагедия незащищённости. Ещё всё впереди. Но уже тогда, сразу после Шестидневной войны, проявились первые признаки будущих отступлений: трусливая оглядка на других, психология не раз битого галутного еврея, который заискивает перед врагом, унижаясь, перечёркивает его победу и право на свои национальные святыни. Семена были посеяны тогда, сегодня мы лишь пожинаем плоды. Когда Ури Цви Гринберг писал: «Срок настал, иди и взирай на жатву». Он думал о духовной жатве, о воспитании гордости своей победой. Какую гордость могла передать подрастающему поколению Шуламит Алони, стоящая под палестинским флагом, когда тысячи израильтян прятались в бомбоубежищах во время Второй Ливанской войны? Или Йоси Сарид, включивший в школьные программы стихи арабского поэта Мухаммеда Дарвиша, проникнутые ненавистью к Израилю? Или Юли Тамир, которая победу в Шестидневной войне рассматривает глазами арабов как катастрофу? И эту трактовку внесла в школьные учебники! Поняла ли она, что теперь две катастрофы противостоят одна другой: Катастрофа, которую пережили мы, евреи, и «катастрофа», которую «изверги»-евреи учинили над арабами?
Достойны ли мы Храмовой горы, достойны ли той памяти, которую хранит наша земля, если с такой лёгкостью расстаёмся с нашими святынями?
Спрашивает царь Давид, будто к нам обращаясь:
«Кто взойдёт на гору Бога, кто встанет на Его святом месте? Тот, у кого чисты руки и чисто сердце, кто не возносил напрасной клятвы Моим Именем и не клялся ложно. Это поколение ищущих Его…»
И в словах этих – напоминание о нашей еврейской сути и о вечной связи души с Небом.
Из книги "Наедине с Иерусалимом"