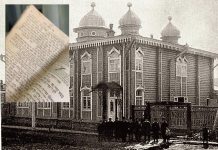Мини-повесть из бытия русско-американских евреев
Александр МАТЛИН, Вест Палм Бич, Флорида
Окончание. Предыдущие главы можете прочитать по ссылке
События развернулись точно так, как предсказывала, точнее, планировала Сильвия Мак-Шварцман. Сначала в газете «Парижские новости» появилась её статья, в которой она безжалостно громила окружного судью по кличке Бульдог. Она обвиняла его в вынесении необоснованно суровых приговоров, в результате чего рушились семьи и ломались судьбы невинных людей. Я фигурировал в качестве наглядного примера такой жертвы, но пока занимал всего лишь два абзаца ближе к концу статьи. Потом стали появляться корреспонденты других местных газет, которым я, с разрешения Сильвии, по вечерам и выходным раздавал интервью. Это было легко и приятно. Корреспонденты почти всегда оказывались молоденькими блондинками и задавали одни и те же вопросы. Их особенно интересовало, из какой страны я приехал и в колготках какого цвета повесилась моя жена.
Одна из блондинок по имени Лючия взяла на себе инициативу по созданию фонда моего спасения. В газетах стали печататься объявления с призывом поддержать меня, и в фонд стали поступать деньги. Я не имел права пользоваться этими деньгами в личных целях, но мне регулярно сообщали о растущей сумме фонда. Правда, росла эта сумма удручающе медленно.
Перед зданием окружного суда стали периодически проходить митинги в мою защиту. Подозреваю, что при этом никто не знал, от чего меня надо было защищать. Одна девушка всегда приходила на митинг с плакатом «Свободу Алексу!», что было довольно глупо, потому что меня пока что никто не лишал свободы, я жил, как и раньше и продолжал ходить на работу, хотя и недолго. Мои доброжелатели узнали, где я работаю, и перед моей лесопилкой прошёл митинг в мою защиту. На следующий день хозяин лесопилки сказал «мне не нужен этот бардак» и выгнал меня с работы.
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Пришло время дать интервью на местном канале телевидения. Мне объяснили, что оно будет передаваться live, то есть в реальном времени, и зрители смогут звонить в студию и задавать мне вопросы. Это звучало пугающе. Я надел пиджак, причесался, и, как велено, за полчаса до начала передачи явился по назначенному адресу. Там меня ждала Сильвия.
– Слушай внимательно, – сказала она. – С тобой будет беседовать ведущая Кэрол Вайсбух. Ты можешь называть её по имени. Пока она говорит, ты должен молчать, что бы она не говорила. Она тебя представит телезрителям, а потом будет задавать вопросы. Она может спросить, любил ли ты свою жену, и ты должен ответить, что любил пламенно и чистосердечно.
– Боюсь, я этих слов не запомню, – сказал я.
– Ну, хорошо, скажи: очень любил. Тогда кто-нибудь из телезрителей может позвонить и спросить: а зачем довёл её до самоубийства? На это ты не должен огрызаться, хамить и обзывать зрителя, задавшего вопрос.
– Хорошенькое дело! Что же мне, лобызать его, что ли?
– Ты должен горько вздохнуть и сказать: «я рад, что вы задали этот вопрос». Если сможешь, постарайся прослезиться. Не спеши с ответом. Вытри глаза, высморкайся, а потом скажи с надрывом, что она тебя бросила и ушла к другому. И хотела, чтобы ты с горя повесился. А ты не хотел вешаться, потому что это бы причинило боль… сам придумай, кому… и подало бы дурной пример… тоже придумай кому… и тогда она, сама это сделала, чтобы тебя наказать, хотя ты перед ней ни в чём не виноват. Тут хорошо бы тебе разрыдаться, но если не сможешь — не надо.
В приёмную заглянула девушка и попросила нас пройти в студию.
– Самок главное, – заторопилась Сильвия. – Я буду сидеть позади камеры. Смотри на меня. Я буду знаками показывать, что говорить, а чего не говорить.
Из студии навстречу нам вышла тщательно причёсанная и подкрашенная шатенка непонятного возраста. Это была Кэрол Вайсбух. Сияя белоснежной улыбкой, она сказала, что безмерно счастлива со мной познакомиться, и пригасила зайти и сесть в указанное кресло. Тут набежали какие-то озабоченные молодые люди и стали хлопотать вокруг меня. Один прицепил на ласкан моего пиджака крошечный микрофон, другой стал пудрить этот пиджак чем-то невидимым, третий слегка подвёл мне брови и наложил лёгкий румянец, после чего молодые люди исчезли так же стремительно, как появились. Человек с камерой произнёс загадочное слово «ролинг», и передача началась.
Миссис Вайсбух представила меня, выяснила, из какой страны я приехал, нравится ли мне Америка, и, наконец перешла к делу:
– В каких отношениях вы были со своей женой?
Я посмотрел на Сильвию, которая примостилась на стуле позади оператора. Она пожирала меня тревожным взглядом. На вопрос ведущей она подняла вверх большие пальцы сразу на обеих руках. Я сказал:
– В очень хороших.
– Вы никогда не ссорились?
Вот дура, подумал я. А ещё журналистка. Вопрос нельзя задавать в негативной форме. На него можно ответить «да» и «нет», и это будет означать одно и то же. В данном случае можно сказать: «да, никогда не ссорились» или «нет, никогда не ссорились». Я подумал и сказал:
– Мы никогда не ссорились.
Далее миссис Вайсбух высыпала на меня целый ворох вопросов, к которым я привык, встречаясь с газетными блондинками. С ними (с вопросами, а не с блондинками) я легко справился. Хуже стало, когда начали звонить бесконтрольные, необученные телезрители. Некоторое время я кое-как лавировал с ответами на их вопросы, пока один агрессивный негодяй не заявил:
– Чего вы из себя жертву строите? Довели жену до самоубийства, а теперь вешаете нам лапшу на уши…
Я испуганно посмотрел на Сильвию. Она побледнела и стала усиленно жестикулировать и строить угрожающие гримасы. Я не понял, что она хотела.
– Я рад, что вы задали этот вопрос, – выдавил я из себя я, умоляюще глядя на ведущую Кэрол, и замолчал.
Кэрол сделала минутную паузу и сказала:
– Извините, у нас неполадки со звуком. Мы вас плохо слышим.
Тут во мне что-то треснуло, и я почувствовал, что из меня, помимо моей воли и указаний Сильвии, хлынула неудержимая злость.
– Я его прекрасно слышу, – заговорил я. – Вы, мистер, лучше заткнитесь и не говорите, чего не знаете. Жена моя была шлюха и стерва. Повесилась — и ладно. Туда ей дорога. Лучше бы она была вашей женой, тогда бы вы, может, не задавали идиотских вопросов. Тоже мне, нашёлся…
Я глянул на Сильвию и осёкся. Она была близка к обмороку, и я испугался, что на моей совести будет ещё одна жертва.
– Дорогие телезрители, – замурлыкала Кэрол, – к сожалению, наше время истекло. Я хочу поблагодарить Алекса за интересное и содержательное интервью и пожелать ему…
Я так и не узнал, чего именно хотела мне пожелать глупая Кэрол. Не дослушав её, я рванулся с кресла и, не оглядываясь, позорно бежал из студии, чтобы не видеть страшных глаз Сильвии Мак-Шварцман.
* * *
Как ни странно, моё катастрофическое выступление на телеканале мало что изменило. Общественная кампания против Бульдога и в мою защиту некоторое время продолжалась, но потом начала постепенно увядать. Демонстрации перед зданием суда редели, и блондинки-репортёрши всё реже навещали меня. В конце концов всё затихло. Прошли выборы, и ненавистный Бульдог остался на своём месте, победив конкурента с таким же преимуществом, с каким побеждал все предыдущие годы. Кампания за его свержение и моё спасение автоматически испустила дух.
Моя жизнь вернулась в прежнее состояние мучительного ожидания. Но ненадолго. Позвонил из полиции сержант Билл и будничным тоном сказал, что следствие по моему делу прекращено за недостатком улик. Дело закрыто. До свиданья. Он отключился, а я всё ещё держал трубку в руке, не веря своему неожиданному счастью.
Удивительно, как причудлив ритм нашей жизни. Длительное и монотонное её течение вдруг нарушается всплеском событий, которые, сгрудившись, скачут одно за другим, как короткая автоматная очередь, после чего снова наступает длительное, унылое затишье. Эта закономерность, а вернее отсутствие закономерности, не поддаётся ни логике, ни математическому моделированию.
В тот же день меня навестила Лючия, которая заведовала фондом в мою защиту. Фонд закрылся. Лючия поздравила меня не понятно, с чем и велела подписать документы, из которых следовало, что на счету фонда значилось сто тысяч триста сорок два доллара. Эта сумма меня поразила. Оказалось, что сто тысяч дал какой-то человек, пожелавший остаться неизвестным. Остальные триста сорок два доллара образовались из пожертвований сознательных граждан, боровшихся за мою защиту. Лючия объяснила, что деньги фонда принадлежат мне, но я по-прежнему не могу ими пользоваться. Что это значит, она не знает. На что эти деньги можно использовать и кто ими имеет право распоряжаться, она тоже не знает, но попробует выяснить.
Лючия позвонила через несколько дней.
– Я всё узнала, – сообщила она с гордостью. – Вы не можете взять эти деньги себе, но вы можете вложить их в какой-нибудь проект или компанию, которые принесут пользу нашему городу. Например…
Безумной молнией у меня в мозгу сверкнула идея, осветив надежду на моё счастливое будущее.
– Понимаю, – торопливо перебил я Лючию. – Я могу вложить эти деньги в компанию, которая будет строить недорогие, но комфортабельные жилые дома для граждан нашего города. От этого будет невообразимая польза, дальше некуда. Как вы думаете, мне разрешат?
– Я уверена, что разрешат, — согласилась Лючия, и я мысленно расцеловал её по телефону. – Если вы также сможете сделать небольшое пожертвование в предвыборную кампанию мэра нашего города, это будет способствовать положительному решению вопроса.
– Какую кампанию? По-моему, выборы только что прошли.
– Это неважно. Предвыборная кампания никогда не кончается.
– Окей, – сказал я. – Жертвую триста сорок два доллара.
Распрощавшись с Лючией, я трясущейся от нетерпения рукой набрал номер моего бывшего босса и будущего партнёра Плотски.
– А, это ты, – уныло сказал он, узнав мой голос. – К сожалению, ничем не могу тебя обрадовать. Загрудски отказался от участия в компании. Я пробовал…
– Дик, – сказал я, задыхаясь от радости и своего величия, – пусть Загрудски поцелует тебя в задницу. У тебя уже есть партнёр.
– Кто?
– Я! Да, да, Дик, я! Вкладываю сто тысяч. Открываем компанию! Предлагаю назвать её «Односемейная радость».
Потом, к моему удивлению, позвонила Сильвия Мак-Шварцман. После моего провалившегося интервью на телеканале я был уверен, что она меня люто возненавидела и отныне никогда не вспомнит моего имени, а если и вспомнит, то лишь для того, чтобы в чём-нибудь меня разоблачить и сделать из этого очередную сенсацию. Но Сильвия, напротив, говорила дружелюбно, даже с некоторым оттенком интимности, и, если бы мы говорили по-русски, можно было бы сказать, что мы перешли на «ты».
– Надеюсь, ты на меня не сердишься? – промурлыкала она, и это звучало скорее как распоряжение, чем вопрос.
– Нет, нет, – заверил я. – Надеюсь, ты тоже, хотя… Конечно, я не должен был так отвечать телезрителю. Знаешь, почему я ему нахамил? Только, между нами. Потому что он был прав.
Сильвия рассмеялась.
– Ладно, забудь об этом. Надо отметить твоё спасение от нашего самого справедливого законодательства. Хочешь, встретимся на ланч?
– С удовольствием.
– Или даже на обед?
– Тем более, — сказал я, ощутив лёгкое беспричинное волнение…
Сияло тёплое весеннее солнце. Париж благоухал рано распустившимися азалиями, и мелкие птичьи твари изо всех сил старались перекричать друг друга. Воздух был напоён счастьем, которое меня одурманивало. Все страхи и волнения остались позади. А впереди — свобода, новая жизнь и собственная фирма, о чём я ещё вчера не смел мечтать. «Ах, как, оказывается, прекрасна жизнь», беззвучно воскликнул я. И в тот же момент солнце погасло, замолкли птички, и вся моя эйфория бесследно испарилась. Безжалостное воображение в сером свете высветило ненавистную Зину в серых колготках, и в мозгу с максимальной громкостью зазвучало: «Прошу тебя… помоги…»
Я тряхнул головой и зачем-то протёр глаза. Я заставил себя думать о чем-нибудь другом, о чём угодно, например о том, как я организую полигон для изготовления железобетонных балок. Зина замолчала и отступила в пустоту. Я вышел на улицу прогуляться. Париж по-прежнему благоухал. Снова светило солнце и громко безобразничали птички. Да, жизнь была прекрасна. Но я знал, что Зина никогда не покинет меня, и что я наказан на всю оставшуюся жизнь.
* * *
Я медленно иду по главной улице моего родного Парижа, наслаждаясь ароматом весеннего воздуха. Смеркается, и окна домов начинают светиться. Я люблю возвращаться с работы пешком. Это всего полторы мили, и занимает у меня около сорока минут. За это время я могу подвести итоги дня и мысленно составить список дел на завтра.
Войдя в дом, я сразу по запаху определяю, что приготовила на обед жена. Сегодня это рыба, запечённая в духовке и салат из помидоров, сладкого перца, чёрных оливок и брынзы. Жена называет его греческим. Хорошо, что греки об этом не знают.
– У меня всё готово, – говорит она, не оборачиваясь. – Мой руки и садись за стол. Сегодня на обед…
– Знаю, знаю, — перебиваю я. — Рыба и твой древнегреческий салат. Кстати, Каролин звонила? Она, если не ошибаюсь, хотела сегодня зайти с детьми.
– Не ошибаешься. Они скоро придут. Кстати, ты знаешь, что на этой неделе твоему старшему внуку исполняется десять лет?
– Боже мой! Робику уже десять! Когда он успел вырасти?
– Представь себе, успел, пока ты строил дома, – говорит жена. – Только не называй его Робиком, он этого не любит. Или Роберт, или Боб, только не Робик. А сейчас я должна переодеться.
Она уходит в спальню на второй этаж, а я доедаю рыбу и сажусь к телевизору посмотреть последние новости. Но не успеваю: раздаётся звонок в дверь. Конечно, это они — наша дочь Каролин со своими детьми, десятилетним Робертом и шестилетней Анитой. Я целуюсь со всеми в порядке старшинства и кричу жене:
– Сильвия, иди, встречай гостей!
– Сейчас, сейчас, – откликается она. – Не могу найти свои серые колготки.
– Дедушка, почему ты побледнел? Тебе нехорошо? – говорит маленькая Анита?
– Тебе показалось, кисонька. Я в полном порядке, – отвечаю я.
Наконец, Сильвия медленно, гордой поступью спускается со второго этажа, как всегда, элегантно одетая и тщательно причесанная. Седина её не портит, она это знает, и никогда не красит волосы. Начинается новый цикл объятий и поцелуев с дочкой и внуками, которых она последний раз видела не больше трёх дней назад. Потом мы садимся пить чай. Дети, перебивая друг друга, взахлёб делятся с нами своими новостями.
– У моей подруги Катрины есть кошка Саша, – сообщает Анита. – Знаете Катрину? Ну вот, к ним пришли друзья её мамы. С собакой. Кошка Саша увидела эту собаку и как прыгнет ей прямо на голову. Собака завизжала и стала метаться по всему дому, опрокинула стол, а нём была посуда…
– Ну и не ври, – перебивает её старший брат. – Никакая собака к ним не приходила. Эта твоя Катрина всё придумывает.
– А ты откуда знаешь?
– Говорю, значит знаю. Мне Джек Плотски рассказал, как на самом деле всё было. Он с братом Катрин дружит.
– Кто? – Я вопросительно смотрю на жену.
– Это внук Линды, – разъясняет Сильвия. – Кстати, я её сегодня видела.
– Как она?
– Плохо. После смерти Дика до сих пор не может прийти в себя, хотя прошло уже больше года.
– Я её понимаю, – глухо говорю я. – Представь себе, я тоже не могу прийти в себя. Ведь мы вместе с Диком создавали и развивали нашу «Односемейную радость», открывали филиалы. Больше сорока лет, рука об руку. А теперь, с его смертью, я остался один. Не могу к этому привыкнуть.
Сильвия молчит, потупившись. В разговор вторгается Каролин:
– Слушай, папа, может быть, тебе уже хватит вкалывать? В твоём возрасте все люди давно на пенсии, розы подстригают, а не строят дома. Продай свои бизнесы и наслаждайся спокойной жизнью, сколько тебе ещё осталось…
– Дедушка, – говорит шестилетняя Аника, – а когда ты умрёшь?
Робик на правах старшего брата даёт ей подзатыльник, а Каролин ахает и вскипает от гнева:
– Анита! Как тебе не стыдно так говорить.!
Мы с Сильвией переглядываемся и смеёмся. Робик, чтобы загладить вину своей глупой сестрёнки, берёт меня за руку.
– Дедушка, расскажи, как вы с бабушкой познакомились.
– Ну что ж… — говорю я и умолкаю.
Воспоминания легко всплывают в моём усталом мозгу и обретают плоть и вкус и запах истории, которую я рассказываю беззвучно, так, чтобы кроме меня её никто не слышал:
– Понимаешь, Робик, твоя любимая бабушка была большой стервой. Сначала она разрушила жизнь дяди Дика и тёти Линды. Потом она разрушила мою жизнь. Почему? Я уже тебе объяснил: потому что была стервой. Из-за неё закрылась компания, и десятки людей остались без работы, в том числе я. Потом я чуть не попал в тюрьму, правда она к этому не имела отношения. Она даже пыталась мне помочь, но из этого ничего не вышло. Впрочем, вышло, и довольно много: я получил возможность вместе с дядей Диком открыть свою компанию. С годами эта компанию окрепла, выросла, и мы с дядей Диком разбогатели. Что же касается бабушки, то я её ненавидел всей душой. Она меня — тоже. Наша взаимная ненависть разрослась, словно какой-то ядовитый волдырь, раздулась до предела, и когда это волдырь лопнул от ненависти, выяснилось, что мы любим друг друга. И она стала мне казаться красивой и умной, а я ей стал казаться умным и красивым. Да, Робик, это было, как в сказке, хотя в сказках так не бывает. В реальной жизни так тоже не бывает. Но вот, представь себе, это произошло. И мы поженились. Это было так давно, что теперь уже никто не поверит, что это было на самом деле….
– Дедушка, – говорит мой внук, дёргая меня за рукав, – дедушка, почему ты молчишь? Дедушка, ты спишь?
– Нет, нет. Так, слегка задремал.
– Дедушка, а это правда, что у тебя до бабушки была другая жена?
– Кто тебе сказал?
– Джек. Он слышал, как бабушка Линда кому-то по телефону рассказывала. Ещё она говорила, будто бы та женщина, твоя жена, повесилась на своих колготках. Это правда?
Меня обдаёт холодом.
– Ну, конечно, – вполголоса говорит Сильвия, поджимая губы. – Линду всегда кто-то за язык тянет.
И, обращаясь к своей дочери добавляет властным тоном:
– Каролин, по-моему, твоим любознательным детям пора спать. Отправляйтесь-ка домой. Мы были рады вас видеть.
Звенят прощальные поцелуи. Наш дом затихает. Спускается ночь, и мой Париж погружается в темноту.